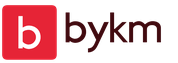Книга Светланы Алексиевич =У войны не женское лицо=. Больше о книге алексиевич у войны не женское лицо У войны не женское лицо 1985
(отрывки)
Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне... Зачем? Уже были тысячи
войн - маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но... Писали мужчины и о мужчинах - это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, известно с "мужского голоса". Мы все в плену "мужских" представлений и "мужских" ощущений войны. "Мужских" слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку. Мою маму.
Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают говорить, то рассказывают не свою войну, а чужую. Другую. Подстраиваются под мужской
канон. И только дома или когда всплакнут в кругу фронтовых подруг, они вспоминают войну (в своих журналистских поездках не раз слышала), которая
мне совершенно незнакома. Как и в детстве, я потрясена. В их рассказах проглядывает чудовищный оскал таинственного... Когда женщины говорят, у них
нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника -
какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У "женской" войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее... Но - почему? - не раз спрашивала я у себя. - Почему, отстояв и заняв
свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт
целый мир. Их война осталась неизвестной...Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.
Написать бы такую книгу о войне, чтобы... самих генералов бы тошнило... Мои друзья-мужчины (в отличие от подруг) ошарашены такой "женской" логикой...
Мужчины... Они неохотно впускают женщин в свой мир, на свою территорию...
На Минском тракторном заводе искала женщину, она служила снайпером. Была знаменитым снайпером. О ней писали не раз во фронтовых газетах. Номер
домашнего телефона мне дали в Москве ее подруги, но старый. Фамилия тоже у меня была записана девичья. Я пошла на завод, где она работала, в отдел
кадров, и услышала от мужчин (директора завода и начальника отдела кадров):
"Разве мужчин не хватает? Зачем вам слушать эти женские истории. Женские фантазии..."
Пришла в одну семью... Воевали муж и жена. Встретились на фронте и там же поженились: "Свадьбу свою отпраздновали в окопе. Перед боем. А белое платье я себе пошила из немецкого парашюта". Он " пулеметчик, она " связная. Мужчина сразу отправил женщину на кухню: "Ты нам чтонибудь приготовь". Уже и чайник вскипел, и бутерброды нарезаны, она присела с нами рядом, муж тут
же ее поднял: "А где клубника? Где наш дачный гостинец?" После моей настойчивой просьбы неохотно уступил свое место со словами: "Рассказывай, как я тебя учил. Без слез и женских мелочей: хотелось быть красивой, плакала, когда косу отрезали". Позже она мне шепотом призналась: "Всю ночь со мной штудировал том "Истории Великой Отечественной войны". Боялся за меня. И сейчас переживает, что не то вспомню. Не так, как надо, расскажу".
Так было не один раз, не в одном доме.
Да, они много плачут. Кричат. После моего ухода глотают сердечные таблетки. Вызывают "Скорую". Но все равно просят: "Ты приходи. Обязательно приходи. Мы так долго молчали. Сорок лет молчали..."
Несколько раз я получала отосланный на
читку текст с припиской: "О мелочах не надо... Пиши о нашей великой
Победе..." А "мелочи" - это то, что для меня главное - теплота и ясность
жизни: оставленный чубчик вместо кос, горячие котлы каши и супа, которые
некому есть- из ста человек вернулось после боя семь; или то, как не могли
ходить после войны на базар и смотреть на красные мясные ряды... Даже на
красный ситец... "Ах, моя ты хорошая, уже сорок лет прошло, а в моем доме ты
не найдешь ничего красного. Я ненавижу после войны красный цвет!"
Уже два года я получаю отказы из издательств. Молчат журналы. В отказах
приговор всегда одинаков - слишком страшная война. Много ужаса. Натурализма.
Нет ведущей и направляющей роли коммунистической партии... Одним словом, не
та война... Какая же она - та? С генералами и мудрым генералиссимусом? Без
крови и вшей? С героями и подвигами. А я помню с детства: идем с бабушкой
вдоль большого поля, она рассказывает: "После войны на этом поле долго
ничего не родило. Немцы отступали... И был тут бой, два дня бились... Убитые
лежали один возле одного, как шпалы на путях. Немцы и наши. После дождя у
них у всех были заплаканные лица. Мы их месяц всей деревней хоронили..."
Как забыть мне про это поле?
Я не просто записываю... Я собираю, выслеживаю человеческий дух там,
где страдание творит из маленького человека большого человека. Для меня он
не немой и бесследный пролетариат истории, а я открыла его душу. Слушаю его
язык. Его текст. Так в чем же мой конфликт с властью? Я поняла - большой
идее нужен маленький человек, ей не нужен он большой. Для нее он лишний и
неудобный. Трудоемкий в обработке. А я его ищу... Ищу маленького большого
человека. Униженный, растоптанный, оскорбленный - пройдя через сталинские
лагеря и предательства, он все-таки победил. Совершил чудо.
Никому не забрать у него эту Победу...
* * * Из того, что вырезала цензура
"Кто-то нас выдал... Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда.
Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в диких чащах, нас
спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина. И технику, и людей она
затягивала намертво. По несколько дней, неделями мы стояли по горло в воде.
С нами была радистка, она недавно родила. Ребенок голодный... Просит
грудь... Но мама сама голодная, молока нет, и ребенок плачет. Каратели
рядом... С собаками... Собаки услышат, все погибнем. Вся группа - человек
тридцать... Вам понятно?
Принимаем решение...
Никто не решается передать приказ командира, но мать сама догадывается.
Опускает сверток с ребенком в воду и долго там держит... Ребенок больше не
кричит... Ни звука... А мы не можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на
друга..."
"Под Сталинградом было столько убитых, что лошади их уже не боялись.
Обычно боятся. Лошадь никогда не наступит на мертвого человека. Своих убитых
мы собрали, а немцы валялись всюду. Замерзшие... Ледяные... Я " шофер,
возила ящики с артиллерийскими снарядами, я слышала, как под колесами
трещали их черепа... Кости... И я была счастлива..."
Из разговора с цензором
" Да, нам тяжело далась Победа, но вы должны искать героические
примеры. Их сотни. А вы показываете грязь войны. Нижнее белье. У вас наша
Победа страшная... Чего вы добиваетесь?
" Правды.
" А вы думаете, что правда - это то, что в жизни. То, что на улице. Под
ногами. Для вас она такая низкая. Земная. Нет, правда - это то, о чем мы
мечтаем. Какими мы хотим быть!
Из разговора в поезде
- Значит, ваше мнение: женщине не место на войне?
- Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не только
провожала на битву мужа, брата, сына, горевала и ждала их. Еще княжна
Ярославна поднималась на крепостную стену и лила расплавленную смолу на
головы врагов. Но у нас, у мужчин, было чувство вины, что девчонки воюют, и
оно у меня осталось. Помню, мы отступаем. А это осень, дожди идут сутками,
день и ночь. Возле дороги лежит убитая девушка... У нее длинная коса, и она
вся в грязи...
- Это, конечно... Когда я слышал, что наши медицинские сестры, попав в
окружение, отстреливались, защищая раненых бойцов, потому что раненые
беспомощны, как дети, я это понимал. А теперь такая картина: две женщины
ползут по нейтральной полосе кого-то убивать со "снайперкой". Ну, да... Не
могу отделаться от чувства, что это, конечно, все-таки "охота"... Я сам
стрелял... Так я же мужчина...
- Но они защищали родную землю? Спасали отечество...
- Это, конечно... В разведку с такой, может быть, и пошел, а замуж бы
не взял. Ну, да... Мы привыкли думать о женщине как о матери и невесте.
Прекрасной Даме, наконец. Мне младший брат рассказывал, как вели по нашему
городу пленных немцев, ну и они, мальчишки, палили по колонне из рогаток.
Мать увидела и дала ему затрещину. А шли молокососы, из тех, которых Гитлер
последними подбирал. Брату было семь лет, но он запомнил, как мать наша
смотрела на этих немцев и плакала: "Чтобы ослепли ваши матери, как они вас
таких на войну пустили!" Война - дело мужское. Мужчин, что ли, мало, о
которых можно написать?
- Н-нет... Я - свидетель. Нет! Вспомним катастрофу первых месяцев
войны: авиации нет, она вдоль границы разбита на земле, так и не поднялась в
воздух, связи нет, танки горят, как спичечные коробки, устаревшие танки.
Миллионы солдат и офицеров в плену... Миллионы! Конница Буденного воевала
против танков. Лошади против металла. Через полтора месяца немецкие войска
уже под Москвой... Кольцо блокады вокруг Ленинграда... Профессора
записывались в ополчение. Старые профессора! И девчонки рвались на фронт
добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Это были смелые, необыкновенные
девчонки. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали
второе место после потерь в стрелковых батальонах. В пехоте. Что такое,
например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу...
Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не
стало. Все лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы бьют, огня не
прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна
девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать
раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам десяти
вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум два-три
человека. Награждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались.
Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в
медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало. Винтовку, автомат,
пулемет - это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан приказ номер
двести восемьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни
солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным
оружием - медаль "За боевые заслуги", за спасение двадцати пяти человек -
орден Красной Звезды, за спасение сорока - орден Красного Знамени, за
спасение восьмидесяти - орден Ленина. А я вам описал, что значило спасти в
бою хотя бы одного... Из-под пуль...
- Это, конечно... Я тоже помню... Ну, да... Послали наших разведчиков в
деревню, где стоял немецкий гарнизон. Двое ушло... Следом еще один... Никто
не вернулся. Командир вызывает одну из наших девчонок: "Люся, ты пойдешь".
Одели ее, как пастушку, вывели на дорогу... А что делать? Какой выход?
Мужчину убьют, а женщина может пройти. Это, конечно... Но видеть в руках
женщины винтовку...
- Девчонка вернулась?
- Фамилию забыл... Помню имя - Люся. Она потом погибла...
- А любовь была на войне? - спрашиваю я.
- Среди фронтовых девчонок я встречал много красивых, но мы не видели в
них женщин. Хотя, на мой взгляд, они были чудесные девчонки. Но это были
наши подружки, которые выволакивали нас с поля боя. Спасали, выхаживали.
Меня дважды вытаскивали раненого. Как я мог к ним плохо относиться? Но вы
могли ли бы выйти замуж за брата? Мы называли их сестренками.
- А после войны?
- Кончилась война, они оказались страшно незащищенными. Вот моя жена.
Она - умная женщина, и она к военным девушкам плохо относится. Считает, что
они ехали на войну за женихами, что все крутили там романы. Хотя на самом
деле, у нас же искренний разговор, это чаще всего были честные девчонки.
Чистые. Но после войны... После грязи, после вшей, после смертей... Хотелось
чего-то красивого. Яркого. Красивых женщин... У меня был друг, его на фронте
любила одна прекрасная, как я сейчас понимаю, девушка. Медсестра. Но он на
ней не женился, демобилизовался и нашел себе другую, посмазливее. И он
несчастлив со своей женой. Теперь вспоминает ту, свою военную любовь, она
ему была бы другом. А после фронта он жениться на ней не захотел, потому что
четыре года видел ее только в стоптанных сапогах и мужском ватнике. Мы
старались забыть войну. И девчонок своих тоже забыли...
- Это, конечно... Были все молодые. Хотелось жить...
" ..Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу... Сорок лет прошло, а до
сих пор щеки горят. Мужчины молчали, а женщины... Они кричали нам: "Знаем,
чем вы там занимались! Завлекали молодыми п... наших мужиков. Фронтовые б...
Сучки военные..." Оскорбляли по-всякому... Словарь русский богатый...
Провожает меня парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце
затарахтит. Иду-иду и сяду в сугроб. "Что с тобой?" - "Да ничего.
Натанцевалась". А это - мои два ранения... Это - война... А надо учиться
быть нежной. Быть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились - сороковой
размер. Непривычно, чтобы кто-то меня обнял. Привыкла сама отвечать за себя.
Ласковых слов ждала, но их не понимала. Они мне, как детские. На фронте
среди мужчин - крепкий русский мат. К нему привыкла. Подруга меня учила, она
в библиотеке работала: "Читай стихи. Есенина читай".
Замуж я вышла скоро. Через год. За нашего инженера на заводе. Я мечтала
о любви. Хотела дом и семью. Чтобы в доме пеленками пахло... Первые пеленки
нюхала-нюхала, не могла нанюхаться. Запахи счастья... Женского... На войне
нет женских запахов, все они - мужские. Война по-мужски пахнет.
Двое детей у меня... Мальчик и девочка. Первый мальчик. Хороший, умный
мальчик. Он институт окончил. Архитектор. А вот девочка... Моя девочка...
Девочка... Она стала ходить в пять лет, первое слово "мама" выговорила в
семь. У нее до сих пор получается не "мама", а "мумо", не "папа", а "пупо".
Она... Мне и сейчас кажется, что это неправда. Ошибка. Она в сумасшедшем
доме... Сорок лет она там. Как ушла на пенсию, хожу к ней каждый день. Мой
грех... Моя девочка...
Уже много лет первого сентября я покупаю ей новый букварь. Мы читаем с
ней букварь целыми днями. Иногда возвращаюсь от нее домой и мне кажется, что
я разучилась читать и писать. Разговаривать. И ничего этого мне не надо.
Зачем это?
Я наказана... За что? Может, за то, что убивала? И так подумаю... В
старости много времени... Думаю и думаю. Утром стою на коленях, смотрю в
окно. И прошу Бога... Обо всех прошу... На мужа обиды не держу, давно его
простила. Родила я дочку... Он посмотрел-посмотрел на нас... Побыл немного и
ушел. Ушел с упреками: "Разве нормальная женщина пойдет на войну? Научится
стрелять? Поэтому ты и ребенка нормального родить не способна". Я за него
молюсь...
А может, он прав? И так подумаю... Это - мой грех...
Я любила Родину больше всего на свете. Я любила... Кому я могу это
сейчас рассказать? Моей девочке... Ей одной... Я вспоминаю войну, а она
думает, что я ей сказки рассказываю. Детские сказки. Страшные детские
сказки..."
Фамилию не пишите. Не надо..."
Клавдия С-ва, снайпер
© Светлана Алексиевич, 2013
© «Время», 2013
– Когда впервые в истории женщины появились в армии?
– Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра Македонского.
Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами».
– А в новое время?
– Впервые – в Англии в 1560–1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили женщины-солдаты.
– Что произошло в ХХ веке?
– Начало века… В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские военно-воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский легион автотранспорта – в количестве 100 тысяч человек.
В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных госпиталях и санитарных поездах.
А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск уже во многих странах мира: в английской армии – 225 тысяч, в американской – 450–500 тысяч, в германской – 500 тысяч…
В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне…
Из разговора с историком
Человек больше войны (из дневника книги)
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в темноте…
Осип Мандельштам
1978–1985 гг
Пишу книгу о войне…
Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И это неудивительно – мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и на поминках. Даже в детских разговорах. Соседский мальчик однажды спросил меня: «А что люди делают под землей? Как они там живут?». Нам тоже хотелось разгадать тайну войны.
Тогда и задумалась о смерти… И уже никогда не переставала о ней думать, для меня она стала главной тайной жизни.
Все для нас вело начало из того страшного и таинственного мира. В нашей семье украинский дедушка, мамин отец, погиб на фронте, похоронен где-то в венгерской земле, а белорусская бабушка, папина мама, умерла от тифа в партизанах, двое ее сыновей служили в армии и пропали без вести в первые месяцы войны, из троих вернулся один. Мой отец. Одиннадцать дальних родственников вместе с детьми немцы сожгли заживо – кого в своей хате, кого в деревенской церкви. Так было в каждой семье. У всех.
Деревенские мальчишки долго еще играли в «немцев» и «русских». Кричали немецкие слова: «Хенде хох!», «Цурюк», «Гитлер капут!».
Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым нам миром, а люди войны – единственно знакомыми нам людьми. Я и сейчас не знаю другого мира и других людей. А были ли они когда-нибудь?
Деревня моего детства после войны была женская. Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают бабы. Плачут. Поют, как плачут.
В школьной библиотеке – половина книг о войне. И в сельской, и в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ – почему. Разве случайно? Мы все время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому, этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться.
В школе нас учили любить смерть. Мы писали сочинения о том, как хотели бы умереть во имя… Мечтали…
Я долго была книжным человеком, которого реальность пугала и притягивала. От незнания жизни появилось бесстрашие. Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла ли бы кинуться в такую бездну? От чего все это было – от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть…
Долго искала… Какими словами можно передать то, что я слышу? Искала жанр, который бы отвечал тому, как вижу мир, как устроен мой глаз, мое ухо.
Однажды попала в руки книга «Я – из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника. Такое потрясение испытала лишь однажды, читая Достоевского. А тут – необычная форма: роман собран из голосов самой жизни. из того, что я слышала в детстве, из того, что сейчас звучит на улице, дома, в кафе, в троллейбусе. Так! Круг замкнулся. Я нашла то, что искала. Предчувствовала.
Алесь Адамович стал моим учителем…
Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне… Зачем? Уже были тысячи войн – маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но… Писали мужчины и о мужчинах – это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, мы знаем с «мужского голоса». Мы все в плену «мужских» представлений и «мужских» ощущений войны. «Мужских» слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку. Мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают вспоминать, то рассказывают не «женскую» войну, а «мужскую». Подстраиваются под канон. И только дома или, всплакнув в кругу фронтовых подруг, они начинают говорить о своей войне, мне незнакомой. Не только мне, всем нам. В своих журналистских поездках не раз была свидетельницей, единственной слушательницей совершенно новых текстов. И испытывала потрясение, как в детстве. В этих рассказах проглядывал чудовищный оскал таинственного… Когда женщины говорят, у них нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника и какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее.
Но почему? – не раз спрашивала я у себя. – Почему, отстояв и заняв свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной…
Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.
После первых встреч…
Удивление: военные профессии у этих женщин – санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер, а сейчас они – бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы… Несовпадение ролей – там и здесь. Вспоминают как будто не о себе, а о каких-то других девчонках. Сегодня сами себе удивляются. И на моих глазах «очеловечивается» история, становится похожей на обычную жизнь. Появляется другое освещение.
Встречаются потрясающие рассказчицы, у них в жизни есть страницы, которые могут соперничать с лучшими страницами классики. Человек так ясно видит себя сверху – с неба, и снизу – с земли. Перед ним весь путь вверх и путь вниз – от ангела к зверю. Воспоминания – это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять. Прежде всего это – творчество. Рассказывая, люди творят, «пишут» свою жизнь. Бывает, что и «дописывают» и «переписывают». Тут надо быть начеку. На страже. В то же время боль расплавляет, уничтожает любую фальшь. Слишком высокая температура! Искреннее, убедилась я, ведут себя простые люди – медсестры, повара, прачки… Они, как бы это точнее определить, из себя достают слова, а не из газет и прочитанных книг – не из чужого. А только из своих собственных страданий и переживаний. Чувства и язык образованных людей, как это ни странно, часто больше подвержены обработке временем. Его общей шифровке. Заражены вторичным знанием. Мифами. Часто приходится долго идти, разными кругами, чтобы услышать рассказ о «женской» войне, а не о «мужской»: как отступали, наступали, на каком участке фронта… Требуется не одна встреча, а много сеансов. Как настойчивому портретисту.
Пишу книгу о войне…
Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И это неудивительно – мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и на поминках. Даже в детских разговорах. Соседский мальчик однажды спросил меня: «А что люди делают под землей? Как они там живут?». Нам тоже хотелось разгадать тайну войны.
Тогда и задумалась о смерти… И уже никогда не переставала о ней думать, для меня она стала главной тайной жизни.
Все для нас вело начало из того страшного и таинственного мира. В нашей семье украинский дедушка, мамин отец, погиб на фронте, похоронен где-то в венгерской земле, а белорусская бабушка, папина мама, умерла от тифа в партизанах, двое ее сыновей служили в армии и пропали без вести в первые месяцы войны, из троих вернулся один. Мой отец. Одиннадцать дальних родственников вместе с детьми немцы сожгли заживо – кого в своей хате, кого в деревенской церкви. Так было в каждой семье. У всех.
Деревенские мальчишки долго еще играли в «немцев» и «русских». Кричали немецкие слова: «Хенде хох!», «Цурюк», «Гитлер капут!».
Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым нам миром, а люди войны – единственно знакомыми нам людьми. Я и сейчас не знаю другого мира и других людей. А были ли они когда-нибудь?
* * *
Деревня моего детства после войны была женская. Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают бабы. Плачут. Поют, как плачут.
В школьной библиотеке – половина книг о войне. И в сельской, и в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ – почему. Разве случайно? Мы все время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому, этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться.
В школе нас учили любить смерть. Мы писали сочинения о том, как хотели бы умереть во имя… Мечтали…
Я долго была книжным человеком, которого реальность пугала и притягивала. От незнания жизни появилось бесстрашие. Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла ли бы кинуться в такую бездну? От чего все это было – от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть…
Долго искала… Какими словами можно передать то, что я слышу? Искала жанр, который бы отвечал тому, как вижу мир, как устроен мой глаз, мое ухо.
Однажды попала в руки книга «Я – из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника. Такое потрясение испытала лишь однажды, читая Достоевского. А тут – необычная форма: роман собран из голосов самой жизни. из того, что я слышала в детстве, из того, что сейчас звучит на улице, дома, в кафе, в троллейбусе. Так! Круг замкнулся. Я нашла то, что искала. Предчувствовала.
Алесь Адамович стал моим учителем…
* * *
Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне… Зачем? Уже были тысячи войн – маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но… Писали мужчины и о мужчинах – это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, мы знаем с «мужского голоса». Мы все в плену «мужских» представлений и «мужских» ощущений войны. «Мужских» слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку. Мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают вспоминать, то рассказывают не «женскую» войну, а «мужскую». Подстраиваются под канон. И только дома или, всплакнув в кругу фронтовых подруг, они начинают говорить о своей войне, мне незнакомой. Не только мне, всем нам. В своих журналистских поездках не раз была свидетельницей, единственной слушательницей совершенно новых текстов. И испытывала потрясение, как в детстве. В этих рассказах проглядывал чудовищный оскал таинственного… Когда женщины говорят, у них нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника и какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее.
Но почему? – не раз спрашивала я у себя. – Почему, отстояв и заняв свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной…
Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.
* * *
После первых встреч…
Удивление: военные профессии у этих женщин – санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер, а сейчас они – бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы… Несовпадение ролей – там и здесь. Вспоминают как будто не о себе, а о каких-то других девчонках. Сегодня сами себе удивляются. И на моих глазах «очеловечивается» история, становится похожей на обычную жизнь. Появляется другое освещение.
Встречаются потрясающие рассказчицы, у них в жизни есть страницы, которые могут соперничать с лучшими страницами классики. Человек так ясно видит себя сверху – с неба, и снизу – с земли. Перед ним весь путь вверх и путь вниз – от ангела к зверю. Воспоминания – это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять. Прежде всего это – творчество. Рассказывая, люди творят, «пишут» свою жизнь. Бывает, что и «дописывают» и «переписывают». Тут надо быть начеку. На страже. В то же время боль расплавляет, уничтожает любую фальшь. Слишком высокая температура! Искреннее, убедилась я, ведут себя простые люди – медсестры, повара, прачки… Они, как бы это точнее определить, из себя достают слова, а не из газет и прочитанных книг – не из чужого. А только из своих собственных страданий и переживаний. Чувства и язык образованных людей, как это ни странно, часто больше подвержены обработке временем. Его общей шифровке. Заражены вторичным знанием. Мифами. Часто приходится долго идти, разными кругами, чтобы услышать рассказ о «женской» войне, а не о «мужской»: как отступали, наступали, на каком участке фронта… Требуется не одна встреча, а много сеансов. Как настойчивому портретисту.
Долго сижу в незнакомом доме или квартире, иногда целый день. Пьем чай, примеряем недавно купленные кофточки, обсуждаем прически и кулинарные рецепты. Рассматриваем вместе фотографии внуков. И вот тогда… Через какое-то время, никогда не узнаешь, через какое и почему, вдруг наступает тот долгожданный момент, когда человек отходит от канона – гипсового и железобетонного, как наши памятники – и идет к себе. В себя. Начинает вспоминать не войну, а свою молодость. Кусок своей жизни… Надо поймать этот момент. Не пропустить! Но часто после длинного дня, заполненного словами, фактами, слезами, остается в памяти только одна фраза (но какая!): «Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла». Ее и оставляю в записной книжке, хотя на магнитофоне накручены десятки метров. Четыре-пять кассет…
Что мне помогает? Помогает то, что мы привыкли жить вместе. Сообща. Соборные люди. Все у нас на миру – и счастье, и слезы. Умеем страдать и рассказывать о страдании. Страдание оправдывает нашу тяжелую и нескладную жизнь. Для нас боль – это искусство. Должна признать, женщины смело отправляются в этот путь…
* * *
Как они встречают меня?
Зовут: «девочка», «доченька», «деточка», наверное, будь я из их поколения, они держались бы со мной иначе. Спокойно и равноправно. Без радости и изумления, которые дарит встреча молодости и старости. Это очень важный момент, что тогда они были молодые, а сейчас вспоминают старые. Через жизнь вспоминают – через сорок лет. Осторожно открывают мне свой мир, щадят: «Сразу после войны вышла замуж. Спряталась за мужа. За быт, за детские пеленки. Охотно спряталась. И мама просила: “Молчи! Молчи! Не признавайся”. Я выполнила свой долг перед Родиной, но мне печально, что я там была. Что я это знаю… А ты – совсем девочка. Тебя мне жалко…». Часто вижу, как они сидят и прислушиваются к себе. К звуку своей души. Сверяют его со словами. С долгими годами человек понимает, что вот была жизнь, а теперь надо смириться и приготовиться к уходу. Не хочется и обидно исчезнуть просто так. Небрежно. На ходу. И когда он оглядывается назад, в нем присутствует желание не только рассказать о своем, но и дойти до тайны жизни. Самому себе ответить на вопрос: зачем это с ним было? Он смотрит на все немного прощальным и печальным взглядом… Почти оттуда… Незачем уже обманывать и обманываться. Ему уже понятно, что без мысли о смерти в человеке ничего нельзя разглядеть. Тайна ее существует поверх всего.
Война слишком интимное переживание. И такое же бесконечное, как и человеческая жизнь…
Один раз женщина (летчица) отказалась со мной встретиться. Объяснила по телефону: «Не могу… Не хочу вспоминать. Я была три года на войне… И три года я не чувствовала себя женщиной. Мой организм омертвел. Менструации не было, почти никаких женских желаний. А я была красивая… Когда мой будущий муж сделал мне предложение… Это уже в Берлине, у рейхстага… Он сказал: “Война кончилась. Мы остались живы. Нам повезло. Выходи за меня замуж”. Я хотела заплакать. Закричать. Ударить его! Как это замуж? Сейчас? Среди всего этого – замуж? Среди черной сажи и черных кирпичей… Ты посмотри на меня… Посмотри – какая я! Ты сначала сделай из меня женщину: дари цветы, ухаживай, говори красивые слова. Я так этого хочу! Так жду! Я чуть его не ударила… Хотела ударить… А у него была обожженная, багровая одна щека, и я вижу: он все понял, у него текут слезы по этой щеке. По еще свежим рубцам… И сама не верю тому, что говорю: “Да, я выйду за тебя замуж”.
Простите меня… Не могу…».
Я ее поняла. Но это тоже страничка или полстранички будущей книги.
Тексты, тексты. Повсюду – тексты. В городских квартирах и деревенских хатах, на улице и в поезде… Я слушаю… Все больше превращаюсь в одно большое ухо, все время повернутое к другому человеку. «Читаю» голос.
* * *
Человек больше войны…
Запоминается именно то, где он больше. Им руководит там что-то такое, что сильнее истории. Мне надо брать шире – писать правду о жизни и смерти вообще, а не только правду о войне. Задать вопрос Достоевского: сколько человека в человеке, и как этого человека в себе защитить? Несомненно, что зло соблазнительно. Оно искуснее добра. Притягательнее. Все глубже погружаюсь в бесконечный мир войны, все остальное слегка потускнело, стало обычнее, чем обычно. Грандиозный и хищный мир. Понимаю теперь одиночество человека, вернувшегося оттуда. Как с другой планеты или с того света. У него есть знание, которого у других нет, и добыть его можно только там, вблизи смерти. Когда он пробует что-то передать словами, у него ощущение катастрофы. Человек немеет. Он хочет рассказать, остальные хотели бы понять, но все бессильны.
Они всегда в ином пространстве, чем слушатель. Их окружает невидимый мир. По меньшей мере три человека участвуют в разговоре: тот, кто рассказывает сейчас, этот же человек, каким он был тогда, в момент события, – и я. Моя цель – прежде всего добыть правду тех лет. Тех дней. Без подлога чувств. Сразу после войны человек рассказал бы одну войну, через десятки лет, конечно, у него что-то меняется, потому что он складывает в воспоминания уже всю свою жизнь. Всего себя. То, как он жил эти годы, что читал, видел, кого встретил. Наконец, счастлив он или несчастлив. Разговариваем с ним наедине, или рядом еще кто-то есть. Семья? Друзья – какие? Фронтовые друзья – это одно, все остальные – другое. Документы – живые существа, они меняются и колеблются вместе с нами, из них без конца можно что-то доставать. Что-то новое и необходимое нам именно сейчас. В эту минуту. Что мы ищем? Чаще всего не подвиги и геройство, а маленькое и человеческое, нам самое интересное и близкое. Ну, что больше всего хотелось бы мне узнать, например, из жизни Древней Греции… Истории Спарты… Я хотела бы прочитать, как и о чем тогда люди разговаривали дома. Как уходили на войну. Какие слова говорили в последний день и в последнюю ночь перед расставанием своим любимым. Как провожали воинов. Как ждали их с войны… Не героев и полководцев, а обычных юношей…
История – через рассказ ее никем не замеченного свидетеля и участника. Да, меня это интересует, это я хотела бы сделать литературой. Но рассказчики – не только свидетели, меньше всего свидетели, а актеры и творцы. Невозможно приблизиться к реальности вплотную, лоб в лоб. Между реальностью и нами – наши чувства. Понимаю, что имею дело с версиями, у каждого своя версия, а уже из них, из их количества и пересечений, рождается образ времени и людей, живущих в нем. Но я бы не хотела, чтобы о моей книге сказали: ее герои реальны, и не более того. Это, мол, история. Всего лишь история.
Пишу не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств. Я – историк души. С одной стороны, исследую конкретного человека, живущего в конкретное время и участвовавшего в конкретных событиях, а с другой стороны, мне надо разглядеть в нем вечного человека. Дрожание вечности. То, что есть в человеке всегда.
Мне говорят: ну, воспоминания – это и не история, и не литература. Это просто жизнь, замусоренная и не очищенная рукой художника. Сырой материал говорения, в каждом дне его полно. Всюду валяются эти кирпичи. Но кирпичи еще не храм! Но для меня все иначе… Именно там, в теплом человеческом голосе, в живом отражении прошлого скрыта первозданная радость и обнажен неустранимый трагизм жизни. Ее хаос и страсть. Единственность и непостижимость. Там они еще не подвергнуты никакой обработке. Подлинники.
Я строю храмы из наших чувств… Из наших желаний, разочарований. Мечтаний. Из того, что было, но может ускользнуть.
* * *
Еще раз о том же… Меня интересует не только та реальность, которая нас окружает, но и та, что внутри нас. Мне интересно не само событие, а событие чувств. Скажем так – душа события. Для меня чувства – реальность.
А история? Она – на улице. В толпе. Я верю, что в каждом из нас – кусочек истории. У одного – полстранички, у другого – две-три. Мы вместе пишем книгу времени. Каждый кричит свою правду. Кошмар оттенков. И надо все это расслышать, и раствориться во всем этом, и стать этим всем. И в то же время не потерять себя. Соединить речь улицы и литературы. Сложность ещё в том, что о прошлом мы говорим сегодняшним языком. Как передать им чувства тех дней?
* * *
С утра телефонный звонок: «Мы с вами не знакомы… Но я приехала из Крыма, звоню с железнодорожного вокзала. Далеко ли это от вас? Хочу рассказать вам свою войну…».
А мы собрались с моей девочкой поехать в парк. Покататься на карусели. Как объяснить шестилетнему человечку, чем я занимаюсь. Она недавно у меня спросила: «Что такое – война?». Как ответить… Я хочу отпустить ее в этот мир с ласковым сердцем и учу, что нельзя просто так цветок сорвать. Жалко божью коровку раздавить, оторвать у стрекозы крылышко. А как объяснить ребенку войну? Объяснить смерть? Ответить на вопрос: почему там убивают? Убивают даже маленьких, таких, как она. Мы, взрослые, как бы в сговоре. Понимаем, о чем идет речь. А вот – дети? После войны мне как-то родители это объяснили, а я своему ребенку уже не могу объяснить. Найти слова. Война нам нравится все меньше, нам все труднее найти ей оправдание. Для нас это уже просто убийство. Во всяком случае, для меня это так.
Написать бы такую книгу о войне, чтобы от войны тошнило, и сама мысль о ней была бы противна. Безумна. Самих генералов бы тошнило…
Мои друзья-мужчины (в отличие от подруг) ошарашены такой «женской» логикой. И я опять слышу «мужской» аргумент: «Ты не была на войне». А может быть, это и хорошо: мне неведома страсть ненависти, у меня нормальное зрение. Невоенное, немужское.
В оптике есть понятие «светосила» – способность объектива хуже-лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая «светосильная» по напряжению чувств, по боли. Я бы даже сказала, что «женская» война страшнее «мужской». Мужчины прячутся за историю, за факты, война их пленяет как действие и противостояние идей, различных интересов, а женщины захвачены чувствами. И еще – мужчин с детства готовят, что им, может быть, придется стрелять. Женщин этому не учат… они не собирались делать эту работу… И они помнят другое, и иначе помнят. Способны увидеть закрытое для мужчин. Еще раз повторю: их война – с запахом, с цветом, с подробным миром существования: «дали нам вещмешки, мы пошили из них себе юбочки»; «в военкомате в одну дверь зашла в платье, а в другую вышла в брюках и гимнастерке, косу отрезали, на голове остался один чубчик…»; «немцы расстреляли деревню и уехали… Мы пришли на то место: утоптанный желтый песок, а поверху – один детский ботиночек…». Не раз меня предупреждали (особенно мужчины-писатели): «Женщины тебе напридумывают. Насочиняют». Но я убедилась: такое нельзя придумать. У кого-то списать? Если это можно списать, то только у жизни, у нее одной такая фантазия.
О чем бы женщины ни говорили, у них постоянно присутствует мысль: война – это прежде всего убийство, а потом – тяжелая работа. А потом – и просто обычная жизнь: пели, влюблялись, накручивали бигуди…
В центре всегда то, как невыносимо и не хочется умирать. А еще невыносимее и более неохота убивать, потому что женщина дает жизнь. Дарит. Долго носит ее в себе, вынянчивает. Я поняла, что женщинам труднее убивать.
* * *
Мужчины… Они неохотно впускают женщин в свой мир, на свою территорию.
На Минском тракторном заводе искала женщину, она служила снайпером. Была знаменитым снайпером. О ней писали не раз во фронтовых газетах. Номер домашнего телефона мне дали в Москве ее подруги, но старый. Фамилия тоже у меня была записана девичья. Пошла на завод, где, как я знала, она работает, в отделе кадров, и услышала от мужчин (директора завода и начальника отдела кадров): «Мужчин, что ли, не хватает? Зачем вам эти женские истории. Женские фантазии…». Мужчины боялись, что женщины какую-то не ту войну расскажут.
Была в одной семье… Воевали муж и жена. Встретились на фронте и там же поженились: «Свадьбу свою отпраздновали в окопе. Перед боем. А белое платье я себе пошила из немецкого парашюта». Он – пулеметчик, она – связная. Мужчина сразу отправил женщину на кухню: «Ты нам что-нибудь приготовь». Уже и чайник вскипел, и бутерброды нарезаны, она присела с нами рядом, муж тут же ее поднял: «А где клубника? Где наш дачный гостинец?». После моей настойчивой просьбы неохотно уступил свое место со словами: «Рассказывай, как я тебя учил. Без слез и женских мелочей: хотелось быть красивой, плакала, когда косу отрезали». Позже она мне шепотом призналась: «Всю ночь со мной штудировал том “Истории Великой Отечественной войны”. Боялся за меня. И сейчас переживает, что не то вспомню. Не так, как надо».
Так было не один раз, не в одном доме.
Да, они много плачут. Кричат. После моего ухода глотают сердечные таблетки. Вызывают «скорую». Но все равно просят: «Ты приходи. Обязательно приходи. Мы так долго молчали. Сорок лет молчали…»
Понимаю, что плач и крик нельзя подвергать обработке, иначе главным будет не плач и не крик, а обработка. Вместо жизни останется литература. Таков материал, температура этого материала. Постоянно зашкаливает. Человек больше всего виден и открывается на войне и еще, может быть, в любви. До самых глубин, до подкожных слоев. Перед лицом смерти все идеи бледнеют, и открывается непостижимая вечность, к которой никто не готов. Мы еще живем в истории, а не в космосе.
Несколько раз я получала отосланный на читку текст с припиской: «О мелочах не надо… Пиши о нашей великой Победе…». А «мелочи» – это то, что для меня главное – теплота и ясность жизни: оставленный чубчик вместо кос, горячие котлы каши и супа, которые некому есть – из ста человек вернулось после боя семь; или то, как не могли ходить после войны на базар и смотреть на красные мясные ряды… Даже на красный ситец… «Ах, моя ты хорошая, уже сорок лет прошло, а в моем доме ты не найдешь ничего красного. Я ненавижу после войны красный цвет!»
* * *
Вслушиваюсь в боль… Боль как доказательство прошедшей жизни. Других доказательств нет, другим доказательствам я не доверяю. Слова не один раз уводили нас от истины.
Думаю о страдании как высшей форме информации, имеющей прямую связь с тайной. С таинством жизни. Вся русская литература об этом. О страдании она писала больше, чем о любви.
И мне об этом рассказывают больше…
* * *
Кто они – русские или советские? Нет, они были советские – и русские, и белорусы, и украинцы, и таджики…
Все-таки был он, советский человек. Таких людей, я думаю, больше никогда не будет, они сами это уже понимают. Даже мы, их дети, другие. Хотели бы быть, как все. Похожими не на своих родителей, а на мир. А что говорить о внуках…
Но я люблю их. Восхищаюсь ими. У них был Сталин и ГУЛаг, но была и Победа. И они это знают.
Получила недавно письмо:
«Моя дочь меня очень любит, я для нее – героиня, если она прочтет вашу книгу, у нее появится сильное разочарование. Грязь, вши, бесконечная кровь – все это правда. Я не отрицаю. Но разве воспоминания об этом способны родить благородные чувства? Подготовить к подвигу…»
Не раз убеждалась:
…наша память – далеко не идеальный инструмент. Она не только произвольна и капризна, она еще на цепи у времени, как собака.
…мы смотрим на прошлое из сегодня, мы не можем смотреть ниоткуда.
…а еще они влюблены в то, что с ними было, потому что это не только война, но и их молодость. Первая любовь.
* * *
Слушаю, когда они говорят… Слушаю, когда они молчат… И слова, и молчание – для меня текст.
– Это – не для печати, для тебя… Те, кто был старше… Они сидели в поезде задумчивые… Печальные. Я помню, как один майор заговорил со мной ночью, когда все спали, о Сталине. Он крепко выпил и осмелел, он признался, что его отец уже десять лет в лагере, без права переписки. Жив он или нет – неизвестно. Этот майор произнес страшные слова: «Я хочу защищать Родину, но я не хочу защищать этого предателя революции – Сталина». Я никогда не слышала таких слов… Я испугалась. К счастью, он утром исчез. Наверное, вышел…
– Скажу тебе по секрету… Я дружила с Оксаной, она была с Украины. Впервые от нее я услышала о страшном голоде на Украине. Голодоморе. Уже лягушку или мышь было не найти – все съели. В их селе умерла половина людей. Умерли все ее меньшие братья и папа с мамой, а она спаслась тем, что ночью воровала на колхозной конюшне конский навоз и ела. Никто не мог его есть, а она ела: «Теплый не лезет в рот, а холодный можно. Лучше замерзший, он сеном пахнет». Я говорила: «Оксана, товарищ Сталин сражается. Он уничтожает вредителей, но их много». – «Нет, – отвечала она, – ты глупая. Мой папа был учитель истории, он мне говорил: “Когда-нибудь товарищ Сталин ответит за свои преступления…”»
Ночью я лежала и думала: а вдруг Оксана – враг? Шпионка? Что делать? Через два дня в бою она погибла. У нее не осталось никого из родных, некому было послать похоронку…
Затрагивают эту тему осторожно и редко. Они до сих пор парализованы не только сталинским гипнозом и страхом, но и прежней своей верой. Не могут ещё разлюбить то, что любили. Мужество на войне и мужество мысли – это два разных мужества. А я думала, что это одно и то же.
* * *
Рукопись давно лежит на столе…
Уже два года я получаю отказы из издательств. Молчат журналы. Приговор всегда одинаков: слишком страшная война. Много ужаса. Натурализма. Нет ведущей и направляющей роли коммунистической партии. Одним словом, не та война… Какая же она – та? С генералами и мудрым генералиссимусом? Без крови и вшей? С героями и подвигами. А я помню с детства: идем с бабушкой вдоль большого поля, она рассказывает: «После войны на этом поле долго ничего не родило. Немцы отступали… И был тут бой, два дня бились… Убитые лежали один возле одного, как снопы. Как шпалы на железнодорожной станции. Немцы и наши. После дождя у них у всех были заплаканные лица. Мы их месяц всей деревней хоронили…».
Как забыть мне про это поле?
Я не просто записываю. Я собираю, выслеживаю человеческий дух там, где страдание творит из маленького человека большого человека. Где человек вырастает. И тогда он для меня – уже не немой и не бесследный пролетариат истории. Отрывается его душа. Так в чем же мой конфликт с властью? Я поняла – большой идее нужен маленький человек, ей не нужен большой. Для нее он лишний и неудобный. Трудоемкий в обработке. А я его ищу. Ищу маленького большого человека. Униженный, растоптанный, оскорбленный – пройдя через сталинские лагеря и предательства, он все-таки победил. Совершил чудо.
Но историю войны подменили историей победы.
Он сам об этом расскажет…
На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии воевало более 1 миллиона женщин. Не меньше их принимало участие в партизанском и подпольном сопротивлении. Им было от 15 до 30 лет. Они владели всеми военными специальностями – летчицы, танкистки, автоматчицы, снайпера, пулеметчицы... Женщины не только спасали, как это было раньше, работая сестрами милосердия и врачами, а они и убивали.
В книге женщины рассказывают о войне, о которой мужчины нам не рассказали. Такой войны мы не знали. Мужчины говорили о подвигах, о движении фронтов и военачальниках, а женщины говорили о другом – как страшно первый раз убить...или идти после боя по полю, где лежат убитые. Они лежат рассыпанные, как картошка. Все молодые, и жалко всех – и немцев, и своих русских солдат.
После войны у женщин была еще одна война. Они прятали свои военные книжки, свои справки о ранениях – потому что надо было снова научиться улыбаться, ходить на высоких каблуках и выходить замуж. А мужчины забыли о своих боевых подругах, предали их. Украли у них Победу. Не разделили.
Светлана Александровна Алексиевич
писательница, журналистка.
Воспоминания женщин-ветеранов. Вырезки из книги Светланы Алексиевич.
"Ехали много суток... Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. Поют. Машут нам - кто косынками, кто пилотками. Стало понятно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. Или в плену. Теперь мы вместо них...
Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может, и помогло - я вернулась домой. Я перед боем медальон целовала..."
Анна Николаевна Хролович, медсестра.

«Умирать… Умирать я не боялась. Молодость, наверное, или еще что-то… Вокруг смерть, всегда смерть рядом, а я о ней не думала. Мы о ней не говорили. Она кружила-кружила где-то близко, но все – мимо.
Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый.
- "Не ходи, убьют, – не пускали меня бойцы, – видишь, уже светает".
Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку.
Приволокла живого.
Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку.
А заместитель командира полка отреагировал по- другому: "Заслуживает награды".
В девятнадцать лет у меня была медаль "За отвагу".
В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги… И меня посчитали убитой… В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее – и не верю. Дите!
Когда я приехала домой с фронта, сестра показала мне похоронку… Меня похоронили…»
Надежда Васильевна Анисимова, санинструктор пулеметной роты.

«В это время немецкий офицер давал солдатам указания. Подошла повозка, и солдаты по цепочке передавали какой-то груз. Этот офицер постоял, что-то скомандовал, потом скрылся. Я вижу, что он уже два раза показался, и если мы еще раз прохлопаем, то это все. Его упустим. И когда он появился третий раз, это же одно мгновенье – то появится, то скроется, – я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх… Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение… После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как будто он близко… И внутри у меня что-то противится… Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок… Он взмахнул руками и упал. Убит он был или нет, не знаю. Но меня после этого еще больше дрожь взяла, какой-то страх появился: я − убила человека?! К самой этой мысли надо было привыкнуть. Да… Короче – ужас! Не забыть…
Когда мы пришли, стали в своем взводе рассказывать, что со мной случилось, провели собрание. У нас комсорг была Клава Иванова, она меня убеждала: "Их не жалеть надо, а ненавидеть". У нее фашисты отца убили. Мы, бывало, запоем, а она просит: "Девчоночки, не надо, вот победим этих гадов, тогда и петь будем»".
И не сразу… Не сразу у нас получилось. Не женское это дело – ненавидеть и убивать. Не наше… Надо было себя убеждать. Уговаривать…»
Мария Ивановна Морозова (Иванушкина), ефрейтор, снайпер.

«Один раз нанесли человек двести раненых в сарае, а я одна. Раненых доставляли прямо с поля боя, очень много. Было это в какой- то деревне… Ну не помню, столько лет прошло… Помню, что четыре дня я не спала, не присела, каждый кричал: "Сестра! Сестренка! Помоги, миленькая!" Я бегала от одного к другому, один раз споткнулась и упала, и тут же уснула. Проснулась от крика, командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: "Молчать! Молчать, я приказываю!" Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: "Сестра! Сестричка!" Я как вскочила, как побежала – не знаю куда, чего. И тогда я первый раз, как попала на фронт, заплакала.
И вот… Никогда не знаешь своего сердца. Зимой вели мимо нашей части пленных немецких солдат. Шли они замерзшие, с рваными одеялами на голове, прожженными шинелями. А мороз такой, что птицы на лету падали. Птицы замерзали.
В этой колонне шел один солдат… Мальчик… У него на лице замерзли слезы…
А я везла на тачке хлеб в столовую. Он глаз отвести не может от этой тачки, меня не видит, только эту тачку. Хлеб… Хлеб…
Я беру и отламываю от одной буханки и даю ему.
Он берет… Берет и не верит. Не верит… Не верит!
Я была счастлива…
Я была счастлива, что не могу ненавидеть. Я сама себе тогда удивилась…»
Наталья Ивановна Сергеева, рядовая, санитарка.

«Тридцатого мая сорок третьего года…
Ровно в час дня был массированный налет на Краснодар. Я выскочила из здания посмотреть, как успели отправить раненых с железнодорожного вокзала.
Две бомбы угодили в сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше шестиэтажного здания и рвались.
Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла сознание…
Когда пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову, попробовала сжать пальцы – вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови.
В коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала меня, спросила:
- "Кто вы? Откуда?"
Подошла ближе, ахнула и говорит:
- "Где тебя так долго носило, Ксеня? Раненые голодные, а тебя нет".
Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин.
В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание, и только слышится: "Скорей! Быстрей!" И опять – "Скорей! Быстрей!"
Через несколько дней у меня еще брали для тяжелораненых кровь. Люди умирали… …За войну я так изменилась, что когда приехала домой, мама меня не узнала.»
Ксения Сергеевна Осадчева, рядовая, сестра-хозяйка.

«Сформировалась первая гвардейская дивизия народного ополчения, и нас, несколько девчонок, взяли в медсанбат.
Позвонила тете:
– Ухожу на фронт.
На другом конце провода мне ответили:
– Марш домой! Обед уже простыл.
Я повесила трубку. Потом мне ее было жалко, безумно жалко. Началась блокада города, страшная ленинградская блокада, когда город наполовину вымер, а она осталась одна. Старенькая.
Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю:
– Дайте мне конфет.
Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое – карточки, что такое – блокада? Все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: "Когда я дорасту до этой винтовки?" И все вдруг стали просить, вся очередь:
– Дайте ей конфет. Вырежьте у нас талоны.
И мне дали…
В медсанбате ко мне хорошо относились, но я хотела быть разведчицей. Сказала, что убегу на передовую, если меня не отпустят. Хотели из комсомола за это исключить, за то, что не подчиняюсь военному уставу. Но все равно я удрала…
Первая медаль "За отвагу"…
Начался бой. Огонь шквальный. Солдаты залегли. Команда: "Вперед! За Родину!", а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели: девчонка поднялась… И они все встали, и мы пошли в бой…
Вручили мне медаль, и в тот же день мы пошли на задание. И у меня впервые в жизни случилось… Наше… Женское… Увидела я у себя кровь, как заору:
– Меня ранило…
В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина.
Он ко мне:
– Куда ранило?
– Не знаю куда… Но кровь…
Мне он, как отец, все рассказал…
Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься – зубы скрипят. Вспоминаешь – где ты? Там или здесь?
Кончилась война, у меня было три желания: первое – наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе, второе – купить и съесть целый белый батон, третье – выспаться в белой постели и чтобы простыни хрустели. Белые простыни…»
Альбина Александровна Гантимурова, старший сержант, разведчица.

«Жду второго ребенка… У меня сыну – два года, и я беременная. Тут – война. И муж на фронте. Я поехала к своим родителям и сделала… Ну, вы понимаете?
Аборт…
Хотя это тогда запрещалось… Как рожать? Кругом слезы… Война! Как рожать среди смерти?
Окончила курсы шифровальщиц, отправили на фронт. Хотела отомстить за своего ребеночка, за то, что я его не родила. Мою девочку… Должна была родиться девочка…
Просилась на передовую. Оставили в штабе…»
Любовь Аркадьевна Чарная, младший лейтенант, шифровальщица.

«Формы на нас было не напастись: – вот дали новенькую, а через пару дней она вся в крови.
Мой первый раненый – старший лейтенант Белов, мой последний раненый – Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и я показала дочерям его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам.
Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого.
Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон…
Таскали на себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. А раненые они еще тяжелее. Его самого тащишь и его , а на нем еще шинель, сапоги.
Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь.
Сбросишь…
Идешь за следующим, и опять семьдесят-восемьдесят килограммов…
И так раз пять-шесть за одну атаку.
А в тебе самой сорок восемь килограммов – балетный вес.
Сейчас уже не верится… Самой не верится…»
Мария Петровна Смирнова (Кухарская), санинструктор.

«Сорок второй год…
Идем на задание. Перешли линию фронта, остановились у какого-то кладбища.
Немцы, мы знали, находятся в пяти километрах от нас. Это была ночь, они все время бросали осветительные ракеты.
Парашютные.
Эти ракеты горят долго и освещают далеко всю местность.
Взводный привел меня на край кладбища, показал, откуда бросают ракеты, где кустарник, из которого могут появиться немцы.
Я не боюсь покойников, с детства кладбища не боялась, но мне было двадцать два года, я первый раз стояла на посту…
И я за эти два часа поседела…
Первые седые волосы, целую полосу я обнаружила у себя утром.
Я стояла и смотрела на этот кустарник, он шелестел, двигался, мне казалось, что оттуда идут немцы…
И еще кто-то… Какие-то чудовища… А я − одна…
Разве это женское дело – стоять ночью на посту на кладбище?
Мужчины проще ко всему относились, они уже готовы были к этой мысли, что надо стоять на посту, надо стрелять…
А для нас все равно это было неожиданностью.
Или делать переход в тридцать километров.
С боевой выкладкой.
По жаре.
Лошади падали…»
Вера Сафроновна Давыдова, рядовой пехотинец.

«Атаки рукопашные…
Я что запомнила? Я запомнила хруст…
Начинается рукопашная: и сразу этот хруст – хрящи ломаются, кости человеческие трещат.
Звериные крики…
Когда атака, я с бойцами иду, ну, чуть-чуть позади, считай – рядом.
Все на моих глазах…
Мужчины закалывают друг друга. Добивают. Доламывают. Бьют штыком в рот, в глаз… В сердце, в живот…
И это… Как описать? Я слаба… Слаба описать…
Одним словом, женщины не знают таких мужчин, они их такими дома не видят. Ни женщины, ни дети. Жутко вообще делается…
После войны вернулась домой в Тулу. По ночам все время кричала. Ночью мама с сестрой сидели со мной…
Я просыпалась от собственного крика…»
Нина Владимировна Ковеленова, старший сержант, санинструктор стрелковой роты.

«Приехал врач, сделали кардиограмму, и меня спрашивают:
– Вы когда перенесли инфаркт?
– Какой инфаркт?
– У вас все сердце в рубцах.
А эти рубцы, видно, с войны. Ты заходишь над целью, тебя всю трясет. Все тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь: истребители стреляют, зенитки расстреливают… Несколько девушек вынуждены были уйти из полка, не выдержали. Летали мы в основном ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днем, но тут же отказались от этой затеи. Наши "По-2" подстреливали из автомата…
Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела знаменитого летчика-аса Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее текло, как будто он под дождем побывал. Теперь можете легко себе представить, что творилось с нами. Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Не могли уже планшет нести, тянули по земле.
А труд наших девушек-оружейниц!
Им надо было четыре бомбы – это четыре сотни килограммов – подвесить к машине вручную. И так всю ночь − один самолет поднялся, второй − сел.
Организм до такой степени перестраивался, что мы всю войну не были женщинами. Никаких у нас женских дел… Месячных… Ну, вы сами понимаете…
А после войны не все смогли родить.
Мы все курили.
И я курила, такое чувство, что ты немножко успокаиваешься. Прилетишь – вся дрожишь, закуришь – успокоишься.
Ходили мы в кожанках, брюках, гимнастерке, зимой еще меховая куртка.
Поневоле и в походке, и в движениях появлялось что-то мужское.
Когда кончилась война, нам сшили платья хаки. Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки…»
Александра Семеновна Попова, гвардии лейтенант, штурман

«Прибыли мы к Сталинграду…
Там смертные бои шли. Самое смертельное место… Вода и земля были красные… И вот с одного берега Волги нам надо переправиться на другой.
Нас никто слушать не хочет:
- "Что? Девчонки? Кому вы к черту тут нужны! Нам стрелки и пулеметчики нужны, а не связисты".
А нас много, восемьдесят человек. К вечеру девчат, которые побольше были, взяли, а нас вдвоем с одной девочкой не берут.
Малые ростом. Не выросли.
Хотели в резерве оставить, но я такой рев подняла…
В первом бою офицеры сталкивали меня с бруствера, я высовывала голову, чтобы все самой видеть. Какое-то любопытство было, детское любопытство…
Наив!
Командир кричит:
- "Рядовая Семенова! Рядовая Семенова, ты с ума сошла! Такую мать… Убьет!"
Этого я понять не могла: как это меня может убить, если я только приехала на фронт?
Я еще не знала, какая смерть обыкновенная и неразборчивая.
Ее не упросишь, не уговоришь.
Подвозили на старых полуторках народное ополчение.
Стариков и мальчиков.
Им выдавали по две гранаты и отправляли в бой без винтовки, винтовку надо было добыть в бою.
После боя и перевязывать было некого…
Все убитые…»
Нина Алексеевна Семенова, рядовая, связистка.

«До войны ходили слухи, что Гитлер готовится напасть на Советский Союз, но эти разговоры строго пресекались. Пресекались соответствующими органами…
Вам ясно, какие это органы? НКВД… Чекисты…
Если люди шептались, то дома, на кухне, а в коммуналках – только в своей комнате, за закрытыми дверями или в ванной, открыв перед этим кран с водой.
Но когда Сталин заговорил…
Он обратился к нам:
- "Братья и сестры…"
Тут все забыли свои обиды…
У нас дядя сидел в лагере, мамин брат, он был железнодорожник, старый коммунист. Его арестовали на работе…
Вам ясно – кто? НКВД…
Нашего любимого дядю, а мы знали, что он ни в чем не виноват.
Верили.
Он имел награды еще с гражданской войны…
Но после речи Сталина мама сказала:
- "Защитим Родину, а потом разберемся".
Родину любили все. Я побежала сразу в военкомат. С ангиной побежала, у меня еще не спала окончательно температура. Но я не могла ждать…»
Елена Антоновна Кудина, рядовая, шофер.

«С первых дней войны в нашем аэроклубе начались переустройства: мужчин забирали, а заменяли их мы, женщины.
Учили курсантов.
Работы было много, с утра до ночи.
Муж мой ушел на фронт одним из первых. Осталась у меня только фотография: стоим с ним вдвоем у самолета, в летчицких шлемах…
Жили мы теперь вдвоем с дочкой, жили все время в лагерях.
А как жили? Я с утра ее закрою, дам каши, и с четырех часов утра мы уже летаем. Возвращаюсь к вечеру, а она поест или не поест, вся измазанная этой кашей. Уже даже не плачет, а только смотрит на меня. Глаза у нее большие, как у мужа…
К концу сорок первого мне прислали похоронную: муж погиб под Москвой. Он был командир звена.
Я любила свою дочку, но отвезла ее к его родным.
И стала проситься на фронт…
В последнюю ночь…
Всю ночь простояла у детской кроватки на коленях…»
Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик.

«Ребеночек у меня был маленький, в три месяца я его уже на задание брала.
Комиссар меня отправлял, а сам плакал…
Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку…
Между ручек и между ножек положу, пеленочками перевяжу и несу. В лесу раненые умирают.
Надо идти.
Надо!
Никто другой не мог пройти, не мог пробраться, везде немецкие и полицейские посты, одна я проходила.
С ребеночком.
Он у меня в пеленочках…
Теперь признаться страшно… Ох, тяжело!
Чтобы была температура, ребеночек плакал, солью его натирала. Он тогда красный весь, по нем сыпь пойдет, он кричит, из кожи лезет. Остановят у поста:
- "Тиф, пан… Тиф…"
Они гонят, чтобы скорее уходила:
- "Вэк! Вэк!"
И солью натирала, и чесночок клала. А дитятко маленькое, я его еще грудью кормила. Как пройдем посты, войду в лес, плачу-плачу. Кричу! Так дитятко жалко.
А через день-два опять иду…»
Мария Тимофеевна Савицкая-Радюкевич, партизанская связная.

«Направили в Рязанское пехотное училище.
Выпустили оттуда командирами пулеметных отделений. Пулемет тяжелый, на себе его тащишь. Как лошадь. Ночь. Стоишь на посту и ловишь каждый звук. Как рысь. Каждый шорох сторожишь…
На войне, как говорится, ты наполовину человек, а наполовину зверь. Это так…
Другим способом не выжить. Если будешь только человек – не уцелеешь. Башку снесет! На войне надо что-то о себе вспомнить. Что-то такое… Вспомнить что-то из того, когда человек еще был не совсем человек… Я не сильно ученая, простой бухгалтер, но это я знаю.
До Варшавы дошла…
И все пешочком, пехота, как говорится, пролетариат войны. На брюхе ползли… Не спрашивайте больше меня… Не люблю я книг о войне. О героях… Шли мы больные, кашляющие, не выспавшиеся, грязные, плохо одетые. Часто голодные…
Но победили!»
Любовь Ивановна Любчик, командир взвода автоматчиков.

«Однажды на учениях…
Я не могу это без слез почему-то вспоминать…
Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. И я нарвала фиалок. Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду. Возвратились в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня.
Я выхожу…
И забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать:
- "Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов".
Ему было непонятно, как это в такой обстановке можно о цветах думать. Мужчине было непонятно…
Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда вне очереди…
Другой раз стою на посту.
В два часа ночи пришли меня сменять, а я отказалась. Отправила сменщика спать:
- "Ты днем постоишь, а я сейчас".
Согласна была простоять всю ночь, до рассвета, лишь бы послушать птиц. Только ночью что-то напоминало прежнюю жизнь.
Мирную.
Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной: женщины, старики, дети. И все плакали: "Девчонки идут на фронт". Нас шел целый батальон девушек.
Я – за рулем…
Собираем после боя убитых, они по полю разбросаны. Все молодые. Мальчики. И вдруг − девушка лежит.
Убитая девушка…
Тут все замолкают…»
Тамара Илларионовна Давидович, сержант, шофер.

«Платья, туфельки на каблуках…
Как нам жалко их, в мешочки позапрятывали. Днем в сапогах, а вечером хоть немножко в туфельках перед зеркалом.
Раскова увидела – и через несколько дней приказ: всю женскую одежду отправить домой в посылках.
Вот так!
Зато новый самолет мы изучили за полгода вместо двух лет, как это положено в мирное время.
В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба. Все три полка, все мы плакали навзрыд.
Выступила Раскова:
– Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери. Их будет много. Сожмите свое сердце в кулак…
Потом, на войне, хоронили без слез. Перестали плакать.
Летали на истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского организма, иногда живот прямо в позвоночник прижимало.
А девочки наши летали и сбивали асов, да еще каких асов!
Вот так!
Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением: летчицы идут.
Они восхищались нами…»
Клавдия Ивановна Терехова, капитан авиации.

«Кто-то нас выдал…
Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда. Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон.
Прятались мы в диких чащах, нас спасали болота, куда каратели не заходили.
Трясина.
И технику, и людей она затягивала намертво. По несколько дней, неделями мы стояли по горло в воде.
С нами была радистка, она недавно родила.
Ребенок голодный… Просит грудь…
Но мама сама голодная, молока нет, и ребенок плачет.
Каратели рядом…
С собаками…
Если собаки услышат, то все погибнем. Вся группа – человек тридцать…
Вам понятно?
Командир принимает решение...
Никто не решается передать матери приказ, но она сама догадывается.
Опускает сверток с ребенком в воду и долго там держит…
Ребенок больше не кричит…
Низвука…
А мы не можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на друга…»
Из разговора с историком.
- Когда впервые в женщины появились в армии?
- Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра Македонского.
Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами».
А в новое время?
- Впервые - в Англии в 1560-1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили женщины-солдаты.
Что произошло в ХХ веке?
- Начало века… В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские военно-воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский легион автотранспорта – в количестве 100 тысяч человек.
В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных госпиталях и санитарных поездах.
А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск уже во многих странах мира: в английской армии – 225 тысяч, в американской – 450- 500 тысяч, в германской – 500 тысяч…
В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне…





Светлана АЛЕКСИЕВИЧ
У ВОЙНЫ - НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…
Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и другие слова - сестра, жена, друг и самое высокое - мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь - синонимы.
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. «Не женская это доля - убивать», - скажет одна из героинь этой книги, вместив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость случившегося. Другая распишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить войну». То была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.
В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае-июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, слово добавить еще одно слово - непереводимое, многозначительное русское слово „подвиг“. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения…» Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово «подвиг», в том будет доля и свершенного в годы войны советской женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами.
…Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рассказов женщин-фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов, танкистов, десантниц, матросов, регулировщиц, шоферов, рядовых полевых банно-прачечных отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подпольщиц. «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы», - писал маршал Советского Союза А.И. Еременко. Были среди девушек и комсорги танкового батальона, и механики-водители тяжелых танков, а в пехоте - командиры пулеметной роты, автоматчики, хотя в языке нашем у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» нет женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина.
Только по мобилизации Ленинского комсомола в армию было направлено около 500 тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. Семьдесят процентов всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин…" ;
Всенародным стало партизанское движение. "Только в Белоруссии в партизанских отрядах находилось около 60 тысяч мужественных советских патриоток" ; . Каждый четвертый на белорусской земле был сожжен или убит фашистами.
Таковы цифры. Их мы знаем. А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных лет. Об этом мы знаем меньше.
«Когда бы мы ни родились, но мы все родились в сорок первом», - написала мне в письме зенитчица Клара Семеновна Тихонович. И я хочу рассказать о них, девчонках сорок первого, вернее, они сами будут рассказывать о себе, о «своей» войне.
«Жила с этим в душе все годы. Проснешься ночью и лежишь с открытыми глазами. Иногда подумаю, что унесу все с собой в могилу, никто об этом не узнает, страшно было…» (Эмилия Алексеевна Николаева, партизанка).
"…Я так рада, что это можно кому-нибудь рассказать, что пришло и наше время… (Тамара Илларионовна Давыдович, старший сержант, шофер).
«Когда я расскажу вам все, что было, я опять не смогу жить, как все. Я больная стану. Я пришла с войны живая, только раненая, но я долго болела, я болела, пока не сказала себе, что все это надо забыть, или я никогда не выздоровлю. Мне даже жалко вас, что вы такая молодая, а хотите это знать…» (Любовь Захаровна Новик, старшина, санинструктор).
"Мужчина, он мог вынести. Он все-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как только вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с убитым, и сама стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то особенно сильный… Вот я говорю, и мне уже плохо… А тогда ничего, тогда все могла. Внучке стала рассказывать, а невестка меня одернула: зачем девочке такое знать? Этот, мол, женщина растет… Мать растет… И мне некому рассказать…
Вот так мы их оберегаем, а потом удивляемся, что наши дети о нас мало знают…" (Тамара Михайловна Степанова, сержант, снайпер).
"…Мы пошли с подругой в кинотеатр, мы с ней дружим скоро сорок лет, в войну вместе в подполье были. Хотели взять билеты, а очередь была большая. У нее как раз было с собой удостоверение участника Великой Отечественной войны, и она подошла к кассе, показала его. А какая-то девчонка, лет четырнадцати, наверное, говорит: «Разве вы, женщины, воевали? Интересно было бы знать, за какие такие подвиги вам эти удостоверения дали?»
Нас, конечно, другие люди в очереди пропустили, но в кино мы не пошли. Нас трясло, как в лихорадке…" (Вера Григорьевна Седова, подпольщица).
Я тоже родилась после войны, когда позарастали уже окопы, заплыли солдатские траншеи, разрушились блиндажи «в три наката», стали рыжими брошенные в лесу солдатские каски. Но разве своим смертным дыханием она не коснулась и моей жизни? Мы все еще принадлежим к поколениям, у каждого из которых свой счет к войне. Одиннадцати человек недосчитался мой род: украинский дед Петро, отец матери, лежит где-то под Будапештом, белорусская бабушка Евдокия, мать отца, умерла в партизанскую блокаду от голода и тифы, две семьи дальних родственников вместе с детьми фашисты сожгли в сарае в моей родной деревне Комаровичи Петриковского района Гомельской области, брат отца Иван, доброволец, пропал без вести в сорок первом.
Четыре года и «моей» войны. Не раз мне было страшно. Не раз мне было больно. Нет, не буду говорить неправду - этот путь не был мне под силу. Сколько раз я хотела забыть то, что слышала. Хотела и уже не могла. Все это время я вела дневник, который тоже решаюсь включить в повествование. В нем то, что чувствовала, переживала,. в нем и география поиска - более ста городов, поселков, деревень в самых разных уголках страны. Правда, я долго сомневалась: имею ли право писать в этой книге «я чувствую», «я мучаюсь», «я сомневаюсь». Что мои чувства, мои мучения рядом с их чувствами и мучениями? Будет ли кому-нибудь интересен дневник моих чувств, сомнений и поисков? Но чем больше материала накапливалось в папках, тем настойчивее становилось убеждение: документ лишь тогда документ, имеющий полную силу, когда известно не только то, что в нем есть, но и кто его оставил. Нет бесстрастных свидетельств, в каждом заключена явная или тайная страсть того, чья рука водила пером по бумаге. И эта страсть через много лет - тоже документ.
Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне - мужские. Это и понятно: воевали-то в основном мужчины, - но это и признание неполного нашего знания о войне. Хотя и о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, написаны сотни книг, существует немалая мемуарная литература, и она убеждает, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. В прошлые времена были легендарные единицы, как кавалерист-девица Надежда Дурова, партизанка Василиса Кожана, в годы гражданской войны в рядах Красной Армии находились женщины, но в большинстве своем сестры милосердия и врачи. Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских женщин в защите своего Отечества.