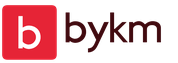Послышалось как где то. «Художественный стиль рассказов Чехова. Устранение недочетов в звуковой организации речи
Аудио отрывок из повести Антона Павловича Чехова "Степь" - колоритное описание летней природы, яркая, со множеством деталей картина грозы.
"...Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками... Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше... Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на её краю висели большие чёрные лохмотья... Вдруг рванул ветер... Ветер со свистом понёсся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум... Он дул с чёрной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли... Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнём... молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали...
Дождь почему-то долго не начинался... Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя... Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожку и убежал куда-то... Что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки."
(На примерах из произведений А.П. Чехова)
Ученическая конференция
Слово преподавателя
В произведениях А.П. Чехова в каждом отрезке текста ощущается единство русского языка и литературы. Изучая язык писателя, мы глубже понимаем, что он хотел выразить словом.
Цель конференции – показать, насколько языковые явления в произведениях А.П. Чехова соответствуют содержательной стороне текста.
Работа основана на выступлениях учеников, которые анализируют примеры из текстов Чехова.
1. Омографы – слова, одинаковые по написанию, но различающиеся по звучанию. Примером стилистически направленного употребления омографов может служить шуточная фраза из письма Чехова: “Собирался приехать к Вам, да дорога дорога?”.
2. Крылатые слова вошли в русский язык из рассказов и пьес писателя. Эти выражения как бы на крыльях перелетели от Чехова к читателю: “в рассуждении чего бы покушать”; “в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”; “двадцать два несчастья”; “живая хронология”; “лошадиная фамилия”; “многоуважаемый шкап”; “на деревню дедушке”; “небо в алмазах”; “они хочют свою образованность показать”; “сюжет для небольшого рассказа”; “сюжет, достойный кисти Айвазовского”; “хмурые люди”; “человек в футляре”.
3. Русскому языку свойственно так называемое “переносное употребление” времени, то есть употребление форм настоящего времени в значении прошедшего и будущего. Чехов умело переходит от прошедшего времени к настоящему историческому, то есть настоящему в значении прошедшего. Настоящее историческое выразительно и наглядно в текстах писателя, оно представляет прошедшее действие как бы совершающимся у нас перед глазами. Оно замещает формы прошедшего времени, например, в рассказе “Ванька”: “Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... ”
4. Формы времени не только в “переносном”, но и в “прямом” значении очень существенны для композиционной организации и эмоционально-экспрессивной окраски текста. Прошедшее время несовершенного вида обозначает прошедшие события не в их последовательности, не как совершившиеся одно за другим, а как происходившие в одном временном отрезке. Оно представляет события как характерные факты для какого-то промежутка времени:
“После обеда приезжали две богатые дамы, которые сидели часа полтора, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый”. Настоящее время обычно характеризуется совпадением момента действия с моментом речи. Но это лишь частный случай для разговорного языка героев Чехова. Он свойствен в основном диалоговой речи, например, в рассказе “Злоумышленник”:
– Отродясь не врал, а тут вру... – бормочет Денис, мигая глазами <...> .
– Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?
– Чаво? Да вы ведь сами спрашиваете!
Чаще формы настоящего времени обозначают действие, которое совершается всегда, обычно, является постоянным признаком производителя действия. Такое значение форм настоящего времени иногда называют “вневременным”. Они многочисленны в репликах Дениса Григорьева в рассказе “Злоумышленник”:
– Мы из гаек грузила делаем...
– У нас и господа так ловят...
– Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем...
– Без грузила только уклейку ловят...
5. Формы условного и повелительного наклонений по природе своей экспрессивны. Они широко употребляются в разговорном языке и отличаются большей живостью, непринужденностью. В значении условного наклонения могут выступать формы повелительного наклонения: “Не догляди сторож, так ведь поезд мог сойти с рельсов, людей бы убило!”.
Статья опубликована при поддержке учебного центра "НП МАЭБ". Центр проводит обучение экологической, энергетической и промышленной безопасности, охране труда ответственных лиц и специалистов, безопасности труда эксплуатации электроустановок , а также программы рабочих строительных, бытовых и производственных объектов, пожарная безопасность. Возможность дистанционного обучения, высококвалифицированные педагоги, дружный коллектив, доступные цены. Узнать подробнее об обучении в центре, цены и контакты Вы сможете на сайте, который располагается по адресу: http://www.maeb.ru/.
6. Монологическая форма словесного выражения в текстах Чехова является основной, главной. А диалог – это форма воспроизведения, литературного изображения “естественного” разговора.
И как бы ни было приближено такое изображение к разговорной реальности, оно останется условным, потому что главное в нем – не копирование действительности, а воплощение художественного замысла автора. Из “Учителя словесности” приведем разговор Никитина с Ипполитом Ипполитычем и отрывок из дневника Никитина. Понаблюдаем, как проявляется разговорный стиль в этих отрывках.
“Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:
– Что такое?
– Я женюсь!
Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:
– Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.
– Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.
– Да, молода! – вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. – Очень, очень молода!
– Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории – плохо. И в классе была невнимательна”.
Отрывок из дневника Никитина. Здесь нет и намека на разговорный стиль.
“…Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани – штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я – учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой”.
Из “Егеря” возьмем то место, где разговор Пелагеи и Егора переходит в монолог егеря:
– Таперя вы где живете?
– У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.
– Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно, словно как бы и ремесло... занятие настоящее...
– Не понимаешь ты, глупая, – говорит Егор, мечтательно глядя на небо. – Ты отродясь не понимала и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал <...>.
Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках.
В “Учителе словесности” разговор двух учителей, имея все общие признаки диалога, не наделен резко подчеркнутыми признаками “разговорности” (разговорное выражение ничего себе и эллипсис а по истории – плохо малозаметны) и в этом смысле приближен к монологу. А в “Егере”, наоборот, монолог выступает как продолжение диалога, связан с ним ситуативно, наделен чертами “разговорности” в лексике и произношении (отродясь, заблудящий человек, по охотницкой части, окромя, ежели, ахтеры) и в синтаксисе (а который понимающий, для того я... ). И диалог в “Учителе словесности”, и монолог в “Егере” отвечают главным общим признакам диалога и монолога.
7. Сравнение – изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного предмета, явления или понятия (объекта сравнения) с другим предметом, явлением или понятием (средством сравнения) с целью выделить какой-либо особо важный в художественном отношении признак объекта сравнения. Сравнение у Чехова чаще всего оформляется с помощью сравнительных союзов как, как будто, словно:
“Я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы”.
8. Метафора. Построенная на основе сравнения, чеховская метафора часто бывает развернутой.
“Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом”.
Или: “Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то...”.
9. Умолчание – фигура, предоставляющая слушателю или читателю возможность догадываться и размышлять, о чем могла пойти речь во внезапно прерванном высказывании. У Чехова много примеров очевидной недосказанности, умолчаний в прямой речи из “Дамы с собачкой”. Слова Анны Сергеевны:
– Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше, ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло...
Слова Гурова:
– Но поймите, Анна, поймите... – проговорил он вполголоса, торопясь. – Умоляю вас, поймите...
10. Чехову свойствен лаконизм. У писателя есть рассказы, где ограничено количество действующих лиц и событий, сужено время и место действия. Например, действие рассказа “Толстый и тонкий” происходит в течение нескольких минут “на вокзале Николаевской железной дороги”. Главных действующих лиц всего двое: толстый и тонкий. И еще два второстепенных: сын и жена тонкого.
11. Очень распространено понимание композиции как развертывания сюжета. У Чехова, в маленьком рассказе “Хамелеон”, обнаруживаются все части композиции. Описание базарной площади, по которой идет полицейский надзиратель Очумелов, – экспозиция. Крик “Так ты кусаться, окаянная?”, который слышит Очумелов, – завязка. Развитие действия – это перемены в отношении Очумелова к золотых дел мастеру Хрюкину и укусившей его собаке в зависимости от высказываемых в толпе соображений: чья собака – генеральская или нет? Кульминация наступает, когда генеральский повар заявляет, что “этаких у нас отродясь не бывало”, а развязка – когда выясняется, что собака – “генералова брата”.
12. В композиции художественного произведения важная роль принадлежит деталям. Повествовательные детали появляются в разных эпизодах повествования, подчеркивая развитие сюжета. Характерный пример можно привести из “Ионыча”. В начале повести герой, побывав в гостях у Туркиных, отправился пешком к себе в Дялиж. А со временем у него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. В конце повести Ионыч уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками. Перечисленные образы создают усиливающуюся градацию. Чехов был признанным мастером детали. Он стремился уйти от однообразного, прямого, непосредственного описания событий, явлений, предметов, характеров и разрабатывал приемы выражения их сути через типичные впечатляющие детали. А.С. Лазарев (Грузинский) в одном из своих писем писал: “Чехов большой мастер слога и сравнений. <...> Он говорит: “Плохо будет, если, описывая лунную ночь, вы напишете: с неба светила (сияла) луна; с неба кротко лился лунный свет... и т.д. Плохо, плохо! Но скажите вы, что от предметов легли черные редкие тени или что-нибудь тому подобное – дело выиграет в сто раз. Желая описать бедную девушку, не говорите: по улице шла бедная девушка и т.п., а намекните, что ватерпруф ее был потрепан или рыжеват – и картина выиграет. Желая описать рыжеватый ватерпруф, не говорите: на ней был рыжеватый старый ватерпруф, а старайтесь все это выразить иначе”...” Знаменитая деталь – блестящее звездой горлышко от разбитой бутылки – была найдена Чеховым в рассказе “Волк”:
…На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном. На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло...
Чехов находит очень убедительные, хотя и не бросающиеся в глаза детали для изображения судьбы действующих лиц своих произведений. Рассказ “Архиерей” заканчивается так:
“Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...
И ей в самом деле не все верили”.
Малозаметная деталь – старуха, мать умершего архиерея, под вечер встречает на выгоне свою корову – говорит о судьбе этой женщины и ее жизни “теперь у зятя-дьякона” не меньше, чем можно было бы сказать в пространном описании.
13. Особое значение у Чехова имеет заключенная в языковых средствах оценочность, которая обусловливает “распределение света и тени”, “переходы от одного стиля изложения к другому, переливы и сочетания словесных красок”. Приведем два отрывка из повести Чехова “В овраге”. О селе Уклееве говорится:
“В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики – три ситцевых и одна кожевенная – находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть”.
Совсем другие краски, другая тональность характерны для рассказа о второй жене Цыбукина:
“Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку, Варвару Николаевну, из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается”.
По отношению к этим отрывкам выражение “распределение света и тени” имеет не столько обобщенный, метафорический, сколько прямой смысл. В первом отрывке – лихорадка, топкая грязь, отбросы, вонючая вода, сибирская язва; скрытая отрицательная оценка есть и в выражениях грязь под заборами, старые вербы, пахло уксусной кислотой; фабрики были небольшие, на них было занято около четырехсот рабочих, не больше (подчеркнута незначительность, захолустность села); во втором отрывке – красивую, видную; все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла; засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями, показались цветы; улыбалась приятно и ласково, все улыбается.
В композиции словесного художественного произведения образ автора проявляется в том, под каким углом зрения изображается действительность. О повести “В овраге” Горький писал: “У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание – он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению, – быть может, потому, что высока, – но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них” . Это высказывание еще раз напоминает нам, что образ автора в повести “В овраге” – это не образ Чехова как человека, конкретной личности, а образ, проявляющийся в “высшей точке зрения”, которая всегда чувствуется в творчестве писателя.
14. В числе композиционных приемов субъективации чеховского повествования рассмотрим приемы представления. Приемы представления названы так потому, что с их помощью передается субъективное представление персонажа о каком-либо предмете, явлении, событии. Смысловое движение при этом происходит в направлении от неизвестного к известному. Такое движение может быть задано употреблением неопределенных местоимений или слов с общим, “неопределенным” значением. Например, в “Степи”:
“Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь”. Движение от неизвестного к известному: что-то – дождь.
Движение от неизвестного к известному может идти также от “сдвинутого”, необычного изображения предмета, отражающего точку видения персонажа. Например, в “Степи”:
“Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба”.
Тянулся бугор – спала какая-то баба – движение от неизвестного к известному.
Изобразительные приемы сходны с приемами представления, но отличаются от них применением средств художественной изобразительности, мотивированных восприятием персонажа. Например, в “Степи”:
“Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо”. Принадлежность образа по крыше шли босиком... к сфере персонажа подчеркивается вводным словом вероятно.
15. Перемещения точки видения могут происходить не только в направлении от автора к рассказчику (или персонажу), но и в обратном направлении – от персонажа или рассказчика к автору. В этих случаях наблюдается нечто противоположное субъективации авторского повествования – “объективация” субъективного по своей природе повествования рассказчика. “Объективация” повествования рассказчика может осуществляться и другим путем, а именно путем сближения образа рассказчика с образом автора. Это можно видеть на примере “Человека в футляре”: “Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укладывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...
И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко”. Раскрытие внутреннего состояния Беликова в этом отрывке хотя и может основываться на наблюдениях рассказчика – Буркина, но очень похоже на проявление авторского “всеведения”.
Слово преподавателя:
Итак, выступившие с докладами ученики предоставили нам возможность еще раз почувствовать и осмыслить неразрывность литературного содержания и русского языка на примерах из произведений Чехова.
Литература
1. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. Учебное пособие для учащихся 10–11-х классов общеобразовательных учреждений. 3-е изд. М.: Просвещение, 1997.
2. Сухих Н.Н. Сборник “Детвора” // Сборники Чехова / Под ред. А.Б. Муратова. Л., 1990.
3. Чехов А.П. Повести и рассказы. Под ред. И.В. Воробьева. М.: “Детская литература”, 1970.
Н.В. КАРНИЗОВА,
ГОУ НПО ПУ-34,
г. Электрогорск,
Московская обл.
Вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.
Дед, гроза будет? - спросил Егорушка.
Ах, ножки мои больные, стуженые! - говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.
Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
А он обложной! - крикнул Кирюха.
Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
Скушно мне! - донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. - Скушно!
Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.
Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.
Пантелле-ей! - крикнул кто-то впереди. - А... а...ва!
Не слыха-ать! - ответил громко и нараспев Пантелей.
А...а...ва! Аря...а!
Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.
Свят, свят, свят, господь Саваоф, - прошептал Егорушка, крестясь, исполнь небо и земля славы твоея...
Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всJ кончится.
Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.
Пантелей! - позвал Егорушка.
Ответа не последовало. Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная
Весь его писательский метод является блестящим примером разрешения этой литературной задачи. Подавляющее большинство рассказов Чехова - это рассказы-миниатюры. Чехов считал, что писать необходимо «кратко», г. е. «талантливо». Краткость формы и талантливость для него были синонимами. Чтобы добиться этой краткости, Чехов шёл по линии совершенно нового отношения к читателю, которого он привлекает к своей творческой работе. Чехов требует активности читательского воображения, которое он сам умел возбудить, дав толчок мысли читателя. Достигал он этого путём применения правдивых и неожиданных деталей при обрисовке образов, вещей, природы, поведения персонажей. Чехов часто даёт только деталь, на основании которой читатель должен был уже сам дополнять образ в целом.
Такую роль в языке персонажа выполняет словцо «пожалуйста» у Туркина («Ионыч»), а в характеристике персонажа - стук палкой о пол, когда Ионыч сердится на больных. Этот приём активизации читателя позволял автору сократить до предела или даже совсем упразднить «общие места» прежней литературы, ставшие шаблонными: предварительные экспозиции положений и характеров, длинные описания всякого рода - всё это автор по-своему «реконструирует». Так, одному писателю Чехов советовал: не нужно подробно описывать вид бедной просительницы достаточно вскользь упомянуть, что она была в рыжей тальме.
В целях достижения краткости формы Чехов избегает в рассказе большого количества персонажей. Это количество ограничивается у него иногда двумя-тремя лицами. Когда тема и сюжет требуют нескольких персонажей, Чехов обычно выбирает центральное лицо, которое и рисует подробно, разбрасывая остальных «по фону, как мелкую монету». Этот приём в наше время своеобразно используется в театрах, когда особо важные образы или мизансцены освещаются прожектором, чтобы обратить внимание зрителя на важнейшее.
Повествование Чехов начинает обычно прямо с основного действия, устраняя всё лишнее. «Я привык к рассказам, состоящим только из начал и концов»,- заявлял Чехов.
Очень важную роль в рассказе Чехова играет диалог. Он, собственно, и движет действие.
Портрет у Чехова даётся обыкновенно только несколькими основными штрихами. Вспомним, например, портреты героев в «Ионыче» или портрет «преступника» в «Злоумышленнике». Часто то, что входит у читателя в привычное понятие о портрете (глаза героя, цвет волос и т. п.), у Чехова совершенно отсутствует.
"Пейзаж у Чехова, как правило, скуп, реалистически точен и в то же время максимально выразителен. Чехов требовал от произведения, чтобы читатель мог, «прочитав и закрыв глаза, сразу вообразить себе изображаемый пейзаж». Поэтому вот как Чехов рисует грозу: «Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко ктото прошёлся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо» («Степь»). Картина заката солнца рисуется Чеховым так: «За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подёргиваться мелкими облачками, как уголья пеплом» («Агафья»).
Композиционной особенностью чеховского рассказа является также приём «рассказа в рассказе», к которому автор часто прибегает. Так построены, например, рассказы «Крыжовник» и «Человек в футляре». Этот приём позволяет автору добиться в одно и то же время и объективности изложения и экономии формы.
При всей кажущейся безыскусственности сжатого рассказа Чехов умеет его сделать интересным и захватить внимание читателя. Он умеет подметить коварные случайности жизни Поэтому часто рассказы его поражают своей неожиданной4 развязкой Все указанные особенности композиции рассказа Чехова были выражением его основного творческого принципа - принципа максимальной экономии художественных средств. Ту же задачу автор разрешал и в языке рассказа.
Чехов пишет языком простым и ясным, понятным любому слою читателей. Простота языка (простота, но не упрощение) - результат огромной, напряжённой работы автора. Это раскрывает сам Чехов, говоря: «Искусство писать состоит, собственно, в искусстве вычёркивать "плохо написанное». Этими словами он как бы перекликается с знаменитым скульптором Роденом, который на вопрос, как он создаёт свои скульптуры, иронически разъяснял, что он делает это очень «просто»: берёт кусок мрамора и удаляет в нём всё лишнее.
Процесс обработки языка идёт у Чехова двумя путями. С одной стороны, он стремится к отбору наиболее «нужных», т. е. точных и выразительных слов. В связи с этим он беспощадно борется со штампами языка и избитыми выражениями. Он заставляет своего героя Треплева (пьеса «Чайка») писать и рассуждать так: «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамлённое тёмными волосами...» Гласила, обрамлённое... Это бездарно. (Зачёркивает.) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное всё вон».
С другой стороны, Чехов стремится к созданию простых синтаксических форм. Давая советы молодому Горькому, он указывал, что нужно как можно меньше давать определений к именам существительным, ибо они рассеивают внимание читателя и заслоняют главное. В сентябре 1899 г. он писал Горькому: «Ещё совет: читая корректуру, вычёркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу «человек сел на траву»; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зелёную, уже измятую пешеходами траву, сел, бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».
Сравнения, метафоры Чехова всегда новы, неожиданны и полны свежести; писатель умеет обратить внимание на какуюто новую сторону предмета, известную всем, но подмеченную как художественное средство лишь особым зрением художника.
Вот шум дождя в описании Чехова: Он (дождь.- Ред.) и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чёмто быстро, весело и препротивно, как две сороки» («Степь»). Вот слова из описания ночной прогулки у реки: «Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребёнок, который хочет дать понять, что не спит» («Агафья»). Вот ещё пример образного сравнения, взятый из записной книжки Чехова: «Почва такая хорошая, что если посадить в землю оглоблю, вырастет тарантас».
Словарное богатство Чехова колоссально. Он знаток профессионального жаргона, и читатель безошибочно, даже не предупреждённый автором, узнаёт по языку профессию и социальное положение персонажа рассказа: солдата, приказчика, моряка, монаха или врача. При этом индивидуализация языка доведена до такого совершенства, что персонажа даёт возможность читателю представить образ человека во всей его живой, ощутимой конкретности. Некоторые из рассказов Чехова целиком построены на профессиональной речи: «Хирургия», «Поленька», «Свадьба» и др. Однако и здесь Чехов проявляет огромное чувство художественной меры, давая только типическое.
В языке Чехова много музыкальности, ритмичности. Этот ритмический строй речи усиливает впечатление от изображаемого предмета, создаёт настроение. Так, в «Степи», чудесной лирической повести без фабулы и интриги, Чехов добивается того, что читателю передаётся чувство тоски от ощущения бескрайности степи. Разгадка этой поэтической тайны лежит в музыкальности прозы Чехова, в мастерстве Чеховастилиста.
Обратим внимание ещё на одну особенность его рассказов, метко охарактеризованную Л. Н. Толстым: «Чехова как художника нельзя даже сравнить с прежними русскими писателями - с Тургеневым, Достоевским или даже со мною. У Чехова своя собственная форма... Смотришь - человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку, и никакого как будто отношения эти мазки между собою не имеют, но отойдёшь, посмотришь - и в общем получается удивительное впечатление: перед вами яркая неотразимая картина».
Чехов, действительно, любит писать «мазками» - особыми яркими, правдивыми деталями, свежими и одновременно типичными, минуя последовательное и всестороннее описание предмета, явления или картины природы. Эта манера проводится им во всей системе художественных средств произведения.
К этому он прибавляет нередко приём - описывать не столько самое явление, сколько впечатление от предмета или явления. В целом всё это создаёт своеобразный творческий метод углублённого реализма, сходный, между прочим, с методом художника-пейзажиста Левитана, который тоже старался отыскать в каждом пейзаже свой мотив, своё впечатление.