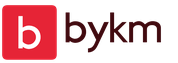Челябинская лекция федора сологуба. Прашкевич Геннадий: Самые знаменитые поэты России Федор Кузьмич Сологуб
Федор Кузьмич
Сологуб
(1863-1927)
Федор Кузьмич Сологуб (настоящая фамилия — Тетерников), один из самых мрачных романтиков в русской литературе, родился 17 февраля (1 марта) 1863 года в Петербурге в бедной семье. Отец занимался портняжным делом в Петербурге; умер от чахотки, когда Федору было 4 года. Мать-крестьянка; работала прислугой в господском доме. Рос и учился Федор вместе с господскими детьми, но спать ему приходилось на кухне. У Федора была сестра, которая была младше его на 2 года. Мать горячо любила своих детей, но в то же время была настоящим деспотом в семье: будущего поэта часто секли. В детстве Федор много читал. К 12 годам он прочел всего Белинского, Добролюбова, Писарева, Некрасова.
В 1882 году окончил Учительский институт и, взяв с собой мать и сестру, уезжает работать в г. Крестцы Новгородской губернии.
В 1885 году переезжает в г. Великие Луки Псковской губернии, где продолжает работать учителем математики.
В 1889 году переводится в г.Вытегра Олонецкой губернии. В годы учительства создается никогда самим поэтом не публиковавшийся цикл стихотворений, получивший условное название «Из дневника» (1883-1904г.г.)
В 1892 году переезжает в Петербург, где входит в круг сотрудников журнала «Северный Вестник», «старших» символистов Д. Мерешковского, З. Гиппиус, Н. Минского.
В 1895 году в журнале «Северный Вестник» был опубликован роман «Тяжелые Сны». В его основе — тяжелые впечатления уездной России 80-х годов.
На первых порах произведения Сологуба публиковались только в «Северном Вестнике», а затем в таких журналах как «Весы», «Русская мысль», «Образование»; в газетах «Речь», «Слово», «Утро России» и др.
В период с 1892 по 1898 года Сологубом были написаны следующие произведения: рассказы «Свет и тени» и «Червяк»; стих-ия «Я ждал, что вспыхнет впереди…», «О смерть! Я твой…», «Я-бог таинственного мира…», «Звезда Маир».
В 1896 году в Петербурге выходит первый поэтический сборник Сологуба, который называется «Стихи».В это время продолжается и карьера Солгуба на поприще просвещения:из учителя математики он превращается в инспектора училищ, становится членом Петербургского уездного училищного совета.
В «литературных сборищах» он был незаметен: «тихий, молчаливый, невысокого роста, с бледным худым лицом и большой лысиной, казавшийся старше своих лет, он как-то пропадал в многолюдных собраниях».(П.Перцов)В период революции 1905 года Сологуб публикует стихи, пародии и острые «политические сказочки» (язвительные, злые эпиграммы на царя и его окружение).
В 1905 году в журнале «Вопросы жизни» печатается создававшийся 10 лет (1892 — 1902) и пренесший Сологубу шумную известность роман «Мелкий бес», в котором на фоне затхлой жизни уездного городишки и колоритных портретов обывателей возвышается сразу же вписавшийся в галерею масштабных сатирических типов русской литературы образ учителя гимназии Передонова, существа отвратительного, все оскверняющего и патологического, кончающего преступлением и сумасшедшим домом. Этот образ поразил современников и вызвал самые противоречивые суждения о себе. Высказывались предположения, что в Передонове Сологуб изобразил темные стороны своего «я». В поздние годы писатель признавался, что «Передонова ему пришлось протащить через себя». Самое яркое высказывание о Передонове принадлежит А. Блоку: «Передонов – это каждый из нас. В каждом из нас есть передоновщина».
В 1906 году выходит шестая по счету книга стихов Сологуба «Змий». В ней мотив солнца последовательно разрабатывается как тема извечно тяготеющего над человеком зла и проклятия.
В 1907 году Сологуб уходит с поприща педагогической деятельности. В этом же году в альмонахе «Шиповник» печатается самый большой роман Сологуба «Навьи чары» (в завершенном виде получил название «Творимая легенда» — 1913 год). В 1907 году Сологубом были написаны следующие произведения: рассказ «Маленький человек» и пьеса «Победа смерти».
В 1908 году Ф.К.Сологуб женится на Анастасии Николаевне Чеботаревской. Их квартира сразу же становится одним из литературных салонов Петербурга. Изменяется, по свидетельству современников, и внешний облик писателя. Недавний типичный разночинец с бородкой и в пенсне делается теперь «сущим патрицием», в облике которого отчетливо проступают писательские черты. В этом же году создаются почти все мифологические драмы Сологуба: «Дар мудрых пчел», «Ночные пляски», и др. ,в которых автор раскрывается глубоким тайновидцем человеческой души на путях двоемирия. С выходом в 1908 году лучшей итоговой книги стихов «Пламенный круг»(VIII книга по счету) Сологуб, безусловно, признается крупнейшим явлением в поэзии. «В современной литературе я не знаю ничего более цельного, чем творчество Сологуба. Сологуб давно уже стал художником совершенным и, может быть, не имеющим себе равного в современности. В «Пламенном круге» он достиг вершины простоты и строгости.» – так писал А. Блок в своей статье «Письма о поэзии»(1908 год).Даже М. Горький,всегда недолюбливавший Сологуба за его «пессимизм»,вынужден признаться, что «Пламенный круг» – это книга удивительная и надолго».
10-ые годы XX века – полный расцвет творчества и популярности Сологуба. Издательствами «Шиповник» и «Сирин» (Петербург) выпускается сразу три его собрания сочинений: два в 12-ти и одно в 20-ти томах (вышло неполным). Сологуб, признанный современниками, входит в четверку наиболее знаменитых писателей вместе с Андреевым, Куприным и Горьким. Сологуб является безусловным авторитетом для поэтов. «Я всегда вас считал и считаю одним из лучших вождей того направления, В котором протекает мое творчество»,- признавался ему Н.Гумилев в письме в 1915 году. Война 1914 года вызывает в Сологубе подъем национального духа, выраженного им в статье «Почему символисты приняли войну»(1914 год) и в книге стихов «Война»(1915 год). Встретив приветствием Февральскую революцию 1917 года, Сологуб отрицательно отнесся к Октябрьскому перевороту и к дальнейшей власти большевиков, как неотвечающим его идеалу «европейской гуманитарной цивилизации».
С апреля 1917 года Сологуб возглавляет «литературную курию» в союзе деятелей искусства, выступившую с требованием «свободы» и «независимости» искусства от государства. В своих знаменитых «Петербургских дневниках» этого периода З. Гиппиус отмечала: «Все – таки самый замечательный русский поэт и писатель – Сологуб – остался «человеком». Не пошел к большевикам. И не пойдет. Не весело ему за то живется».
В 1921 году жена писателя, А.Н.Чеботаревская, в приступе меланохолии покончила с собой, бросившись в Неву. Писатель тяжело переживал смерть жены. Спасение от одиночества находит в творчестве. В этом году выходят сборники стихов: «Одна любовь», «Соборный благовест», «Фимиамы»; роман «Заклинательница змей».
В1922 году выходят следующие сборники стихов: «Костер дорожный», «Свирель», «Чародейная чаша».
В 1923 году выходит сборник стихов «Великий благовест».
Поздняя лирика Сологуба претерпевает значительную эволюцию в сторону опрощения и приятия жизни. М.Кузьмин в 1922 году писал: «В лучших стихах Сологуба Вы найдете примиренность, большее приятие жизни и милое простодушие, вообще свойственное этому поэту, но которое прежде он часто маскировал наивным демонизмом».
Сологуб предвидел свою кончину именно в декабре:
«Каждый год я болен в декабре,
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить,
Я склоняюсь к смерти в декабре…»
(«Триолетты», 1913 год).
Он и скончался 5 декабря 1927 года. Похоронен на Смоленском кладбище, неподалеку от места первоначального захоронения А.Блока.
Говорят что здесь бывали… Знаменитости в Челябинске Боже Екатерина Владимировна
Челябинская лекция Федора Сологуба
Лекция Федора Сологуба проходила 3 февраля 1916 года в зале Челябинской женской гимназии. Ныне на этом месте – здание выставочного зала Союза художников РФ (ул. Цвиллинга, 34).
Зал был небольшим, равно как и само одноэтажное деревянное здание гимназии, а потому собравшимся было тесновато. Организатором лекции выступил известный в Челябинске музыкант и дирижер Г.Д. Моргулис. Желание услышать и увидеть заезжую знаменитость привело на лекцию разных людей. Кто-то ожидал получить ответ на вопрос, как жить дальше, а кто-то хотел узнать новости литературной жизни… Лекция, как следует из названия, не содержала в себе четко определенной темы, а потому не давала и четких ответов. Мнения о ней пришедших слушателей разделились. Может быть, именно поэтому леволиберальная газета «Голос Приуралья», обычно ограничивавшаяся короткими репликами по поводу выступлений в Челябинске тех или иных гастролеров, на этот раз изменила себе и дала целых три отзыва о лекции Федора Сологуба. Редактировал газету в 1915–1916 годах писатель А.Г. Туркин, приверженец критического реализма, не упускавший возможности выразить свое неприятие декадентских течений в литературе. Поэтому опубликованные им в газете «отклики» о выступлениях в Челябинске символистов: Сологуба, а затем и К. Бальмонта (побывал в Челябинске в марте 1916 года) – не отличались объективностью.
Два из трех данных им откликов могли бы быть объединены заголовком «Чего не дала лекция Сологуба». В первом отзыве автор, скрывшийся под псевдонимом «А.А.», отметил, что лекция на него не произвела никакого впечатления. «Получилась какая-то расплывчатость, туманность, местами чувствовались горечь и обида, когда Сологуб касался будущности и ожиданий России в ее мистическом направлении, тяготения к востоку, возрождения в творимых легендах, ожидания чуда. Всё это, конечно, неплохо, но несвоевременно…» По мнению этого рецензента, усилия общества и всех его членов в условиях войны должны быть направлены не на осмысление жизни, а на достижение победы над врагом. При этом непонятно было, для чего этот критик Сологуба вообще пошел на лекцию «Россия в мечтах и ожиданиях», если изначально отвергал право человека в условиях войны вообще иметь «мечты» и «ожидания».
Туркин, подписавшийся инициалами «А.Т.», во многом, если не во всем, был согласен с критикой, высказанной в адрес Сологуба, но не преминул еще раз озвучить свой излюбленный тезис о том, что декаденты страшно далеки от народа: «Умные, талантливые Сологубы поняли, что нужно что-нибудь делать и им, нужно быть поближе к народу, потянула их „провинция“, когда-то неинтересная и „узкая“ для их „зовов“. И лекции они делают красиво по заголовкам, нарядно по сочетанию звуков и форм, но бедно и узко по содержанию, далекому от истинных народных дум и тревог…»
Однако не все челябинцы остались недовольны выступлением писателя. Автор третьего отзыва на лекции Сологуба писал: «Я – рядовой обыватель провинции, жил несколько лет безвыездно в своем городе – рад каждой свежей, извне приходящей мысли. Таким-то живым словом и является лекция поэта Сологуба. Тема, избранная лектором, – жизненная, отвечающая потребностям времени… Задумался над томившими ранее вопросами; отчасти получил на них ответы. Но самое важное – получил указание, как от книги, от мечты и ожиданий перейти к действительности; как сделаться из теоретика, книжного „гробокопателя“ человеком жизни в полном смысле этого слова…»
Безусловно, приезд Сологуба в Челябинск стал культурным событием для нашего города. Челябинцы смогли составить свое представление о личности знаменитого автора, задумались о том, о чем в суете трудных военных будней не задумывались. Польза от этой лекции была даже для тех, кому творчество Сологуба не нравилось, потому что, не соглашаясь в чем-то с писателем, они искали аргументы, опровергающие его утверждения, и тем самым лучше определяли свою позицию.
Революция 1917 года и последовавшие вслед за этим события по-новому заставили и Сологуба, и его челябинских критиков взглянуть на будущее России. Октябрьский переворот не принял не только Федор Кузьмич, но и А. Г. Туркин, убывший вместе с белыми из Челябинска и умерший от тифа под Новониколаевском (ныне Новосибирск). Федор Сологуб вместе со своей женой А.Н. Чеботаревской также попытался выехать из страны. Однако сделать это ему не удалось. Самоубийство жены повергло Сологуба в шок, но, как это ни странно, пробудило его и подвигло к творчеству. Последние стихи Сологуба, написанные в двадцатые годы прошлого века, получили положительные отклики литературной критики.
После смерти жены Федор Кузьмич неоднократно задумывался о собственной смерти. 5 декабря 1927 года его не стало. Всё случилось, как он и предсказывал в одном из своих триолетов в 1913 году: «В декабре я перестану жить».
Из книги Один под парусами вокруг света [с иллюстрациями] автора Слокам Джошуа Из книги Том 5. Публицистика. Письма автора Северянин Игорь Из книги Неизданный Федор Сологуб автора Сологуб Федор Из книги Южный Урал, № 27 автора Рябинин Борис Из книги Говорят что здесь бывали… Знаменитости в Челябинске автора Боже Екатерина Владимировна Из книги Федор Сологуб автора Савельева Мария Сергеевна Из книги Русский Нострадамус. Легендарные пророчества и предсказания автора Шишкина Елена Из книги Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения автора Поливанов Константин Михайлович Из книги автора Из книги автора Из книги автора Из книги автораРождение Федора Сологуба 17 февраля 1863 года в семье петербургского портного Кузьмы Афанасьевича Тетерникова (в официальных документах – Тютюнникова) и его жены Татьяны Семеновны родился сын Федор. Когда ему исполнилось четыре года, от чахотки умер отец. Мать, оставшись с
Из книги автораОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. К. СОЛОГУБА 1863, 17 февраля (1 марта) - в Петербурге в семье портного Кузьмы Афанасьевича Тетерникова (настоящая фамилия - Тютюнников) родился сын Федор. Отец будущего писателя был крепостным, до переезда в Петербург служил лакеем в
Из книги автораОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФЕДОРА СОЛОГУБА Сологуб Ф. Стихи. Книга I. СПб., 1896.Сологуб Ф. Тени. Рассказы и стихи. СПб., 1896.Сологуб Ф. Собрание стихов. Книга III и IV. М., 1904.Сологуб Ф. Жало смерти. М., 1904.Сологуб Ф. Книга сказок. М., 1905.Сологуб Ф. Политические сказочки. СПб.,
Из книги автораО судьбе царевича Федора (будущего царя Федора Алексеевича) «Пережить ему и жену, и сына. Сидеть на троне честно. На двадцать лет не будет Руси бед от турка».Когда в возрасте 46 лет скончался царь Алексей Михайлович, 14-летний Федор взошел на российский престол. Главной его
Из книги автора«Говорят, что я проста…» Литературные отношения Федора Сологуба и Анны Ахматовой Рассматривая и интерпретируя поэтические тексты 1910-х годов А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, Ф. Сологуба, и сталкиваясь с проблемой реконструкции той атмосферы, в которой они
Мать вынуждена была вернуться «одной прислугой» в семью Агаповых, петербургских дворян, у которых она когда-то прежде служила. В семье Агаповых прошло всё детство и отрочество будущего писателя. Свой поэтический дар будущий писатель ощутил в возрасте двенадцати лет, а первые дошедшие до нас законченные стихотворения датируются . В тот же год Фёдор Тетерников поступил в Санкт-Петербургский Учительский институт. В институте он учился и жил (заведение было на интернатной основе) четыре года. По окончании института в июне 1882 года он, взяв мать и сестру, уехал учительствовать в северные губернии - сначала в Крестцы , затем в Великие Луки (в 1885 году) и Вытегру (в 1889 году), - в общей сложности проведя десять лет в провинции.
Служба в провинции (1882-1892)
В Петербурге (1893-1906)
В период Первой русской революции 1905-06 гг. большим успехом пользовались политические сказочки Сологуба, печатавшиеся в революционных журналах. «Сказочки» - это особый жанр у Фёдора Сологуба. Краткие, с незатейливым и остроумным сюжетом, зачастую красивые стихотворения прозе, а иногда и отталкивающие своей душной реальностью, они писались для взрослых, хотя Сологуб обильно использовал детскую лексику и приёмы детского сказа. В 1905 году Сологуб собрал часть опубликованных к тому времени сказочек в «Книгу сказок» (изд-во «Гриф »), а писавшиеся тогда же «политические сказочки» были включены в одноимённую книгу, вышедшею осенью 1906 года. Помимо газетных статей и «сказочек» Сологуб отозвался на революцию пятой книгой стихов «Родине». Она вышла в апреле 1906 года .
«Мелкий бес»
Летом 1902 года был окончен роман «Мелкий бес ». Как сказано в предисловии, роман писался десять лет (1892-1902). Провести роман в печать оказалось не легко, несколько лет Сологуб обращался в редакции различных журналов, - рукопись читали и возвращали, роман казался «слишком рискованным и странным». Лишь в начале 1905 года роман удалось устроить в журнал «Вопросы жизни», но его публикация оборвалась на 11-номере в связи с закрытием журнала, и «Мелкий бес » прошёл незамеченным широкой публикой и критикой. Только когда роман вышел отдельным изданием, в марте 1907 года, книга получила не только справедливое признание читателей и стала объектом разбора критиков, но и просто явилась одной из самых популярных книг России.
В романе изображена душа зловещего учителя-садиста Ардальона Борисыча Передонова на фоне тусклой бессмысленной жизни провинциального города. «Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом, - описывается Передонов в романе. - Всё доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности, и радовали его. У него не было любимых предметов, как не было любимых людей, - и потому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства, только угнетать их». Садизм, зависть и предельный эгоизм довели Передонова до полного бреда и потери реальности. Как и Логина, героя «Тяжёлых снов », Передонова страшит сама жизнь. Его ужас и мрак вырвался наружу и воплотился в невоплотимой «недотыкомке».
Обращение к театру (1907-1912)
Когда революционнные события отхлынули, произведения Фёдора Сологуба, наконец, привлекли к себе внимание широкой читательской аудитории, в первую очередь благодаря изданию в марте 1907 года «Мелкого беса ». Сологуб к тому времени оставил публицистику и сказочки, сосредоточившись на драматургии и новом романе - «Творимая легенда » («Навьи чары»). Осенью 1907 года Сологуб занялся подготовкой седьмой книги стихов (то были переводы из Верлена), по выходу которой запланировал издание восьмой книги стихов «Пламенный круг», воплотившей весь математический символизм Сологуба.
«Рождённый не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю мою душу, - пишет поэт во вступлении к «Пламенному кругу». - Открываю, - хочу, чтобы интимное стало всемирным». Утверждая связь всех своих исканий и переживаний, Сологуб последовательно определил девять разделов книги. Мотивы книги имеют как бы тройную природу, и развитие их идёт в трёх направлениях: по линии отображения реальности исторической ситуации, по философской и по поэтической линиям. В «Личинах переживаний» поэт предстаёт в разных ипостасях - от нюрнбергского палача до собаки. От поэтического и мифического переходит к «земному заточению», где нет молитв, нет спасению от «погибели чёрной».
Ко времени появления «Пламенного круга» относятся первые крупные критические разборы поэтического творчества Сологуба. Вдумчиво подошли к его поэзии Иванов-Разумник («Фёдор Сологуб», 1908), Иннокентий Анненский , Лев Шестов («Поэзия и проза Фёдора Сологуба», 1909). Брюсов , со свойственной ему педантичностью, обнаруживает, что «в 1 томе сочинений Сологуба на 177 стихотворений более 100 различных метров и построений строф, - отношение, которое найдется вряд ли у кого-либо из современных поэтов». Андрей Белый пришёл к выводу, что из современных поэтов исключительно богаты ритмами только Блок и Сологуб, у них он констатировал «подлинное ритмическое дыхание». Многими отмечено, что поэтический мир Сологуба действует по своим законам, всё в нём взаимосвязано и символически логично. «Сологуб - прихотливый поэт и капризный, хоть нисколько не педант-эрудит, - замечает Анненский . - Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере, но самые стихи его кристаллизуются сами, он их не строит». Некоторых критиков сбивало последовательное неизживание образов: то смерть, а затем преображение, потом вновь смерть или сатанизм, раздражало постоянное использование уже заявленных символов. Корней Чуковский видел в этом символизм незыблемости, смертельного покоя. «И не странно ли, что [...] у Сологуба заветные его образы - те самые, которые так недавно волновали нас у него на страницах: Альдонса, Дульцинея, румяная бабища, Ойле, „чары“, „творимая легенда“ - всё это стало теперь у него почему-то обиходными, готовыми, заученными словами, - так сказать, консервами былых вдохновений».
В последующих драматических работах преобладали сюжеты из современной жизни. В целом, драмы Сологуба шли в театрах редко, и в большинстве своём то были малоуспешные постановки. Сологуб, как теоретик театра, разделял идеи Вяч. Иванова , В. Э. Мейерхольда и Н. Евреинова («переносить самого зрителя на сцену» определил Евреинов задачей монодрамы в брошюре «Введение в монодраму»). В развёрнутом виде свои взгляды на театр Сологуб изложил в эссе «Театр одной воли» (сб. «Театр», 1908) и заметке «Вечер Гофмансталя» (1907).
В начале 1910-х годов Фёдор Сологуб заинтересовался футуризмом. В 1912 году Сологуб, главным образом через Чеботаревскую, сближается с группой петербургских эгофутуристов (Иван Игнатьев , Василиск Гнедов и др.). Лирика Сологуба была созвучна идеям эгофутуризма , и Сологуб и Чеботаревская с интересом принимали участие в альманахах эгофутуристических издательств «Очарованный странник» Виктора Ховина и «Петербургский глашатай » Игнатьева. Через последнего Сологуб в октябре 1912 познакомился с автором сильно заинтересовавших его стихов - 25-летним поэтом Игорем Северяниным , и вскоре после этого устроил ему вечер в своём салоне.
«Творимая легенда»
Эстетические искания Сологуба, последовательно обоснованные в эссе «Я. Книга совершенного самоутверждекния» (1906), «Человек человеку - дьявол» (1906) и «Демоны поэтов» (1907), составились, наконец, в богатую символику «творимой легенды».
В статье «Демоны поэтов» и предисловии к переводам Поля Верлена Фёдор Сологуб вскрывает два полюса, определяющих всю поэзию: «лирический» и «иронический» (Сологуб придаёт лирике и иронии своё значение, употребляемое только в его контексте: лирика уводит человека от постылой действительности, ирония его с ней примиряет). Для иллюстрации своего понимания поэтического творчества Сологуб берёт сервантесского Дон-Кихота и его идеал - Дульцинею Тобосскую (всем видимую как крестьянку Альдонсу). К этому дуалистическому символу писатель будет неоднократно обращаться на протяжении последующих нескольких лет в публицистике и драматургии. Реальное, живое воплощение этой мечты Дон-Кихота Сологуб видел в искусстве американской танцовщицы Айседоры Дункан .
В беллетризованной форме свои идеи Сологуб выразил в романе-трилогии «Творимая легенда » (1905-1913). Изначально, задуманный им цикл романов назывался «Навьи чары», и первая часть называлась «Творимая легенда» (1906), за нею следовали «Капли крови», «Королева Ортруда» и «Дым и пепел» (в двух частях), - все они были опубликованы 1907-1913 гг. Затем Сологуб отказался от столь декадентского названия в пользу «Творимой легенды», что более соответсвовало идее романа. Окончательная редакция «Творимой легенды», уже как трилогии, была помещена в XVIII-XX тт. Собрания сочинений изд-ва «Сирин» (1914); годом ранее роман был издан в Германии на немецком). Роман вызвал недоумение критиков.
В следующем романе Фёдора Сологуба «Слаще яда» (1912), напротив, никакой мистики не было. Это была драма о любви мещанской девушки Шани и юного дворянина Евгения. «Творимая легенда» оборачивается полуфарсом, полутрагедией, Сологуб показывает горьчайшую иронию подвига преображения жизни. Роман писался следом за «Творимой легендой», хотя был задуман много ранее.
Турне по России 1913-1917
На фоне повышенного интереса общества к новому искусству и к сочинениям автора «Творимой легенды» в частности, Фёдор Сологуб задумал серию поездок по стране с чтением стихов и лекции о новом искусстве, пропагандировшей принципы символизма. После основательной подготовки и премьеры лекции «Искусство наших дней» 1 марта 1913 года в Санкт-Петербурге , Сологубы вместе Игорем Северяниным выехали в турне. Более месяца продолжалась их поездка по российским городам (от Вильны до Симферополя и Тифлиса .
Основные тезисы лекции «Искусство наших дней» были составлены Чеботаревской, прилежно организовавшей credo сологубовской эстетики по его статьям. При этом были учтены предшествующие работы Д. С. Мережековского, Н. Минского, В. И. Иванов, А. Белого, К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова. Сологуб развивает мысль о соотношении искусства и жизни. По нему, подлинное искусство влияет на жизнь, заставляет человека смотреть на жизнь уже пережитыми образами, но оно же и побуждает к действию. Без искусства жизнь становится лишь бытом, с искусством же начинается преобразование самой жизни, то есть творчество. А оно, если искренно, всегда будет этически оправданным, - таким образом мораль ставится в зависимость эстетики.
После первых выступлений оказалось, что лекции Сологуба на слух принимались не очень успешно, несмотря на аншлаг во многих городах. Обзоры выступлений в прессе также были двузначными: кто-то не принимал воззрений Сологуба совершенно, кто-то писал о них как о красивом вымысле, и каждый укорял лектора в его нежелании хоть как-то установить контакт с публикой. А чтение стихов Игорем Северяниным, завершавшим лекции Сологуба в первом турне, вообще рассматривалось обозревателями, как намеренное издевательство над литературой и слушателями. «Сологуб, - писал Владимир Гиппиус , - решил своей лекцией высказать исповедание символизма … и произнёс суровую и мрачную речь... Глубока пропасть между этим невесёлым человеком и молодостью, - неуверенно, или равнодушно, рукоплескавшей ему.» Сологубу, внимательно отслеживавшему в прессе все замечания о себе, были известны такие оценки лекции, но менять что-либо в характере выступлений не пытался. Турне были возобновлены и продолжились вплоть до весны 1914 года, завершившись серией лекций в Берлине и Париже .
Успех лекций подтолкнул Фёдора Сологуба расширить свою культуртрегерскую деятельность, результатом чего стало основание своего собственного журнала «Дневники писателей» и общества «Искусство для всех». Сологуб также принимал участие в созданном совместно с Леонидом Андреевым и Максимом Горьким «Российском Обществе по изучению еврейской жизни». Еврейский вопрос всегда интересовал писателя: ещё в статьях 1905 года Сологуб призывал к искорениению всякого официального антисемитизма , а в 1908 году Сологубом был начат роман «Подменённый» (не завершён) - на тему взаимоотношений евреев и рыцарей в средневековой Германии . Зимой 1915 года Сологуб от имени Общества ездил на встречу с Григорием Распутиным , дабы узнать о его отношении к евреям (почему тот превратился из антисемита в сторонника еврейского полноправия). Одним из плодов «Общества по изучению еврейской жизни» стал сборник «Щит» (1915), в котором были опубликованы статьи Сологуба по еврейскому вопросу.
Годы революции (1917-1921)
Последние годы (1921-1927)
В середине 1921 года советское правительство издало несколько декретов, ознаменовавших начало эры Новой экономической политики , после чего сразу же ожила издательская и типографская деятельность, восстановились заграничные связи. Тогда же появляются новые книги Фёдора Сологуба: сначала в Германии и Эстонии и затем в Советской России.
Первой их этих книг Сологуба явился роман «Заклинательница змей», изданный в начале лета 1921 года в Берлине . Роман с перерывами писался в период с 1911 по 1918 годы и стал последним в творчестве писателя. Наследуя реалистическое и ровное повествование предыдущего романа, «Слаще яда», «Заклинательница змей» получилась странно далёкой от всего того, что прежде писал Сологуб. Сюжет романа свёлся к нехитрым феодальным отношениям бар и рабочих, разворачивавшимся на живописных волжских просторах. Первая послереволюционная книга стихов «Небо голубое» вышла в сентябре 1921 года в Эстонии (куда в то время пытались выехать Сологубы). В «Небо голубое» Сологуб отобрал неопубликованные стихи 1916-21 гг. В том же издательстве вышел последний сборник рассказов Сологуба - «Сочтённые дни».
С конца 1921 года книги Сологуба начинают издаваться и в Советской России: выходят поэтические сборники «Фимиамы» (1921), «Одна любовь» (1921), «Костёр дорожный» (1922), «Соборный благовест» (1922), «Чародейная чаша» (1922), роман «Заклинательница змей» (1921), отдельное иллюстрированное издание новеллы «Царица поцелуев» (1921), переводы (Оноре де Бальзак , Поль Верлен , Генрих фон Клейст). Новые книги стихов определяли те же настроения, намеченные в «Небе голубом». Наравне с преобладавшими стихотворениями последних лет, были помещены и те, что были написаны несколько десятилетий тому назад. Своею цельностью особенно выделялся сборник «Чародейная чаша».
Фёдор Сологуб остался в СССР и продолжал плодотворно трудиться, много писал - но всё «в стол»: его не печатали. Чтобы продолжать активную литературную деятельность в таких условиях Сологуб с головой ушёл в работу петербургского Союза Писателей (в январе 1926 года Сологуб был избран председателем Союза). Деятельность в Союзе Писателей позволила Сологубу предолеть одиночество, заполнив всё его время, и расширить круг общения: ведь к тому времени почти все бывшие крупные писатели и поэты дореволюционной России, к среде которых принадлежал Сологуб, оказались заграницей.
Последним большим общественным событием в жизни Фёдора Сологуба стало празднование его юбилея - сорокалетие литературной деятельности, - отмеченое 11 февраля 1924 года. Чествование, организованное друзьями писателя, проходило в зале Александринского театра . На сцене с речами выступили Е. Замятин , М. Кузмин , Андрей Белый , О. Мандельштам ; среди организаторов торжества - А. Ахматова , Аким Волынский , В. Рождественский . Как отмечал один из гостей, всё проходило так великолепно, «как будто все забыли, что живут при советской власти». Это торжество парадоксально оказалось прощанием русской литературы с Фёдором Сологубом: никто из тогдашних поздравителей, равно как и сам поэт, не предполагал, что после праздника больше не выйдет ни одной его новой книги. Была надежда на переводы, которыми Сологуб плотно занялся в 1923-1924 гг., однако большинство из них не увидело свет при жизни Сологуба.
В середине 20-х гг. Сологуб вернулся к публичным выступлениям с чтением стихов. Как правило, они проходили в форме «вечеров писателей», где наряду с Сологубом выступали А. А. Ахматова, Е. Замятин, А. Н. Толстой , М. Зощенко , В. Рождественский, К. Федин , К. Вагинов и другие. Новые стихи Сологуба только и можно было услышать из уст автора с петербургских и царскосельских эстрад (летние месяцы 1924-1927 гг. Сологуб проводил в Царском Селе), так как в печати они не появлялись. Тогда же, в начале 1925 и весной 1926 года, Сологуб написал около дюжины антисоветских басен , читались они лишь в узком кругу. По свидетельству Р. В. Иванова-Разумника, «Сологуб до конца дней своих люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как „туполобые“». В качестве внутренней оппозиции режиму (особенно после того, вопрос с эмиграцией отпал) был отказ от нового правописания и нового стиля летоисчисления в творчестве и личной переписке. Мало надеясь на появление в свет своих книг, Сологуб тем не менее сам, незадолго до смерти, составил два сборника из стихотворений 1925-27 гг. - «Атолл» и «Грумант».
В мае 1927 года, в разгар работы над романом в стихах «Григорий Казарин», Фёдор Сологуб серьёзно заболел. Болен он был давно, и болезнь до того более-менее удавалось подавить, теперь же осложнение оказалось неизлечимым. С лета писатель уже почти не вставал с постели. Осенью началось обострение болезни. Умирал поэт долго и мучительно. Последние стихотворения поэта помечены 1 октября 1927 г.
Федор Кузьмич, несмотря на нищее детство и не менее нищую учительскую молодость (он преподавал математику), хотел жить хорошо: по утрам пить "лянсин" (китайский чай) с филипповским калачом и даже завести ванную комнату - по тем временам устройство солидное. Но судьба метила его в великие поэты, что готовит, как известно, больше сорняков, нежели букетов. Для начала хариты подкинули ему на жизненный путь "недотыкомку" - существо капризное, игручее, зловещее: то прикинется карлицей-красавицей, то мягким гладким мячиком-апельсином, который на поверку оказывался клейким колючим ежом, то на ровной дороге оборачивалось острым камнем на радость босой ноге, то незаметной въедливой колючкой разрывало шикарный шелк… словом, первый подарок харит мог обрадовать только оригинала:
Недотыкомка серая
Предо мной всё вьется да вертится…
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою…
"Недотыкомка": шероховатая предметная неопределенность, состояние, событие, ужасное положение вещей, нечто, напоминающее "демоническую силу" архаической Греции:
Только забелели поутру окошки,
Мне метнулись в очи пакостные хари…
Хвост, копытца, рожки мреют на комоде,
Смутен зыбкий очерк молодого черта.
Нарядился бедный по последней моде,
И цветок алеет в сюртуке у борта.
Это еще ничего. По выходе из спальни лирического героя встречает компания: генерал и три розовые певички. Три коробки спичек "прямо в нос мне тычет генерал сердитый" , а затем вся компания скоком устремляется вверх. В саду тоже несладко:
…машет мне дубиной
За колючей елкой старичок лохматый,
Карлик, строя рожи, пробежал тропинкой,
Рыжий, красноносый, весь пропахший мятой.
Герой, понятно, всю шайку гонит "аминем", они, поохав и повизжав, хором отвечают: "Так и быть, до ночи мы тебя покинем!"
Но зачем обвинять надуманную "недотыкомку"? Легко объяснить вышеприведенное похмельем белой горячки, лихорадкой, еще бог знает чем! Никто не спорит: "недотыкомка" - превосходное слово, отражающее нескладность, бестолковость, вечный неуют, хроническую каверзу и т.д.
Всё это так. Поначалу человек и поэт резко переплелись. Весьма "пьяный поэт" отвечает весьма бедному, замотанному жалкими заботами человеку:
Мне так и надо жить, безумно и вульгарно,
Дни коротать в труде и ночи в кабаке,
Встречать немой рассвет тоскливо и угарно,
И сочинять стихи о смерти и тоске.
За редким исключением, человек устраивается на поэте, как двойник на плечах героя "Эликсиров сатаны" Э.Т.А.Гофмана, и гонит его в свою нелепую человеческую даль. Они досаждают друг другу - ни симбиоза, ни даже простого союза. Поэт досаждает человеку сентенциями касательно бессмысленности практического бытия, человек упрекает поэта… в безденежье. Сологуб возражает двойнику в легкой, несколько северянинской манере:
Цветы для наглых, вино для сильных,
Рабы послушны тому, кто смел,
На свете много даров обильных
Тому, кто сердцем окаменел.
Что людям мило, что людям любо,
В чем вдохновенье и в чем полет,
Все блага жизни тому, кто грубо
И беспощадно вперед идет.
Федор Сологуб открывается стиху, как легкие - свежему воздуху, как оратор - благодарной аудитории. В русской поэзии трудно отыскать столь же исключительного мастера. Он словно "говорит стихами" как спутники Пантагрюэля близ оракула "Божественной Бутылки". Это так естественно и беспрепятственно, что мы только потом, только через десяток страниц понимаем: ведь это трудное и мучительное искусство поэзии!
Учитель гимназии Федор Кузьмич, который, разумеется, не верит ни в какую "недотыкомку", убеждает поэта: ради китайского чая, филипповского калача и ванны не худо бы найти на первый случай хорошую, работящую женщину. Это провоцирует экстаз поэта. Женщина! Он начинает стихотворение очень оригинально: "Обыдиотилась совсем…":
Обыдиотилась совсем,
Такая стала несравненная,
Почти что ничего не ем
И улыбаюсь, как блаженная,
И, если дурой назовут,
Приподниму я брови черные.
Мои мечты в раю цветут,
А здесь все дни мои покорные.
Быть может, так и проживу
Никем не узнанной царицею,
Дразня стоустую молву
Всегда безумной небылицею.
За последние три тысячи лет прогресс налицо. Гомер верил в реальность богов больше, чем плотник в реальность своего молотка. Сологуб создал совершенно русский образ. Россия всегда была тем хороша, что неверие выражалось открыто, наивно, грубо - здесь можно было усмирить неверующих не только что "безумной небылицею", но и призывом к милосердию: идиотка она и есть идиотка, прости ее Господи. Единственное, чему нет конца, - милосердию Божьему. К тому же "идиот-идиотка" соответствуют в русской магической номенклатуре "царю-царице". Это выше батюшки и матушки. Примерно так: ведьма может проговорить "матушка березовых листьев", но про себя подумает: "царица листьев", то есть царица листьев вообще. На Руси царица всегда скрывается, равно как и царь. Страна жила, живет и будет жить под тайной монархической властью, официальные правители не значат ничего. Федор Сологуб, очевидно, кое-что об этом знал:
И шла мне навстречу царица,
Такая же злая, как я,
И с нею безумная жрица,
Такая же злая, как я.
Для понимания этих строк необходимо примечание: в многозначном, вызывающем частые недоразумения, магическом языке слово "злость" может означать "невидимость", а слово "безумие" - "интуиция" или, вернее, "орфический разум сердца".
Пылали безумные лица
Такой же тоской, как моя,
И злая из чар небылица
Вставала, как правда моя.
В том же контексте: в магическом языке "не" и "без" часто утрачивают отрицательное значение. "Бессовестный" - это "глухой", "небылица" - повесть, рассказанная незнакомым человеком. При этом обычный смысл ничуть не пропадает. В таком плане балладический поэтизм обретает полную неопределенность. Опыт ли поэта, рассказ ли странника, или то и другое. Русская скрытая царица властвует и над русалками. Отсюда убедительность стихотворения о русалке:
Отчетливо и тонко
Я вижу каждый волосок;
Погибшего ребенка.
Хорошая поэзия характерна достоверностью неожиданных подробностей. Для лицезрения русалки надобно с помощью вожатого (честная мать, ведьма, водяной) обрести особое качество зрения: например, одновременно увидеть и густую путаницу волос, и каждый волосок наособицу:
И я дышу дыханьем рос,
Благоуханием невинным,
И влажным запахом пустынным
Русалкиных волос.
Здесь весьма тонкий момент: в "русалкиных волосах" запах воды сочетается с веяньем раскаленной пустыни. Почему? Вода, ужас насильственной смерти, мучения души и тела переплетаются в невообразимой трансформации. Откуда поэт узнал историю русалки?
Она стонала над водой,
Когда ее любовник бросил.
Ее любовник молодой
На шею камень ей повесил.
Необходимо для этого три вещи минимум: жертва кровью из вены, бросанье драгоценного камня в воду и произнесения "дии" (особого заговора). Разумеется, здесь пригодны и другие способы: либо надо услышать "небылицу" странника, либо стихотворно создать сцену с помощью активного воображения, фантастического modus operandi неоплатоников. Любопытно: автор нисколько не осуждает лиходея; во-первых, его мог бес попутать, что аналогично злой судьбе, во-вторых, неизвестно - человек ли он или какой-либо тератоморфный агент метаморфозы. А потом, разве так уж прекрасно человеком быть, разве так уж часто смотрят на нас люди из двусмысленных, внешне человеческих лиц? Россия - престранный край. Сядешь усталый на гнилое бревно, так оно вдруг завоет, загогочет, щекотаться примется - на спящего лешего угодил; встанешь на крепкий, надежный камень - он перевернется, рассыплется, да еще в глаза песку накидает; возляжешь на сеновал - снизу писки, вопли, рыдания, затем роковитый бас: негоже, Матрена, честную семью будить! А то ступаешь ночью по вязкому перелеску - хорошо, ночь непролазная, окрестные кусты распрямляются, за тобой спешат, шуршат, словно пересуды точат. Навстречу пень - на пне старик. Дедушка, что за нечисть такая? Это, сынок, ерунда, курослепы, прости Господи! Бойся куровидцев, вот напасть-то окаянная…
И вспоминаешь "Многострадальную Россию" Федора Сологуба:
Издевка, бешенство и злоба,
Рыданья, стоны и тоска. -
Кого же вывела из гроба
Неумолимая рука?
В России не делают разницы меж вещами одушевленными и неодушевленными. Поэт рассказывал Н.Минскому следующий эпизод: полуденной жарой, мол, притомился и улегся где-то на косогоре; чувствую, косогор качается и скрипит, потом захохотал и завыл, будто кликуша; заметался я, задергался, в ноге зуд невозможный; тер глаза, тер, вижу - рядом старушка охает да бормочет: "Неподобное, батюшка, место выбрал. Здесь живет петух Басман - шпорами исчешет, а там и заклюет до смерти". Как не вспомнить "Многострадальную Россию":
Что это - хохот иль рыданье,
Или звериный дикий вой,
Иль хохот леших, иль рыканье
Быков рогатых за стеной?
Равным образом, не делают особой разницы меж покойниками и живыми, меж стеной и прислоненному к стене. Отсюда обязательные присловья: "Ох ты, стенушка, телочки не обижай, ох ты, телочка, стенушки не раскидай". Бабка поэта, крепостная крестьянка, славилась ведьмой, - она передала Федору Сологубу много полезного о "навьих чарах": смерть всегда ставит на мельницу мальчонку с дурным глазом; как заснешь у лесного озерца, да поутру испьешь водицы - тут тебе лудый (бес) в друзья и навяжется. Особенно напоминала многократно крестить подушку перед сном. Коли уберега не будет, найдешь утром на подушке голову удавленника. Так ты ее в свежий лен укутай, да зарой под ракитов куст: не бойся, он дорогу домой сам найдет.
Со временем чувство нежити и населенного одиночества развилось чрезвычайно. Это, понятно, не касалось образованного обывателя Федора Кузьмича Тетерникова, но его неудобного спутника - поэта. Пока деловитый взляд Федора Кузьмича проектировал цвет стен и направленность мебели, в молчании поэта проползали ученые строки:
Не трогай в темноте
Того, что незнакомо, -
Быть может, это - те,
Кому привольно дома.
Но у человека и поэта случаются совместные занятия. Разумеется, ничего серьезного, качели, к примеру. Они, правда, лишний раз доказывают, что человек самостоятельно летать не умеет. Качели - устройство вполне экзистенциальное, иллюстрация мудрости Гераклита: "Дорога, идущая вверх, дорога, идущая вниз - одна и та же дорога". В примитивных обществах качели - важный магический утенсилиум: шаман может сутками качаться и при вхождении в транс качаться при неподвижном теле. В знаменитых "Чертовых качелях" Федора Сологуба проблема решена полузабавно-полусерьезно. Если шаман раскачивает качели минуту-другую, а потом, в трансе, качели сами останавливаются через сутки-двое, то здесь всё происходит реалистично:
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.
Игра втягивает, увлекает, но редко заставляет забыть о крепости сука и трении веревки. Полет - непременное условие ухода от инерции бытия. Представим удовольствие много раз прошагать туда и обратно расстояние размаха качелей! А ведь к этому и сводится наша жизнь. Правда, всякое улучшение занудства опасно. "Черт" в стихотворении Сологуба не только инициатор "веселой жизни", но и несомненный погубитель:
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки.
Легкий плясовой ритм только подчеркивает томительную безысходность. Но "я знаю" относится только к Федору Кузьмичу. Если он, безусловно подозревает черта, то в свойствах материи уверен наверняка. В этих "свойствах" - судьба земной жизни:
Пока не перетрется.
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.
В отличие от Федора Кузьмича, поэт не уверен ни в чем. Ни в трении конопли, ни в предательстве сука, ни в стопроцентном коварстве черта. Поэт никогда не может дать категорических определений, поскольку чувствует за вещами много невидимого и неслышимого. "Над верхом темной ели хохочет голубой…" Кто это? Вероятно, "воздухарь" - один из злых демонов воздуха. Остальные "визжат, кружась гурьбой" . Кто эти остальные? "Нечистая сила" - название слишком общее и религиозно окрашенное. Сведения о магии, гоэции, "навьих чарах" взяты нами из книг, из фольклора, в лучшем случае из крайне сомнительной практики. Понятно, мы ничего не знаем о смерти. Но разве у нас есть достоверная информация о жизни?
«ВЕСЬ МИР – В ОДНИХ МОИХ МЕЧТАХ»
При жизни Федор Сологуб был достаточно известен и признан, удостоен как хвалебных отзывов, так и бранной критики. Ему казалось, что надо бежать от этой суетной славы, и он заклинал ее стихами:
Я отрекаюсь наперед
От похвалы, от злой отравы,
Не потому, что смерть взойдет
Предтечею ненужной славы,
А потому, что в мире нет
Моим мечтам достойной цели,
И только ты, нездешний свет,
Чаруешь сердце с колыбели.
Он ошибался. Смерть не была «предтечею ненужной славы», она стала предвестником долгого забвения. Когда его упомянули в 1946 г., впервые после длительного молчания, то контекст был такой: говоря о том, что последнее время что-то часто стали печатать Ахматову А.А., Жданов поставил имя поэта в такой ряд: «Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо стал сейчас переиздавать произведения Мережковского, Вяч. Иванова, Михаила Кузмина, А. Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве». (Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». – М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1946. С. 11).
Ряд вполне почтенный. Все названные писатели сейчас изданы достаточно широко. Интересно, что в одну кучу попали и эмигрировавший Д. С. Мережковский, не удостоенный даже инициалов, и Андрей Белый, про которого «Правда» в 1934 году писала, что он «умер советским писателем». Но нас сейчас интересует Федор Сологуб. По многим его стихам мы можем представить себе этакого римлянина времен упадка. Это впечатление подтверждает и портрет работы Константина Сомова, на котором мы видим надменное лицо ушедшего в себя интроверта. А вот еще характеристика поэта из малоизвестной статьи И. Г. Эренбурга: «На лице Сологуба всегда тщательно закрыты ставни, напрасно любопытные прохожие жаждут подсмотреть, что там внутри. Есть особнячки такие – окна занавешены, двери заперты – покой, благолепие, только смутно чует сердце что-то недоброе в этой мирной тишине...» (И. Эренбург. Портреты русских поэтов. – Берлин: Аргонавты, 1922).
Между тем происхождение его было ультрапролетарским. Отец – портной из крепостных, мать – то прачка, то прислуга. Отец рано умер, и мать с двумя детьми скиталась по чужим людям. Что такое лютая бедность, Федору было известно с самых малых лет. И это о себе он пишет:
Родился сын у бедняка.
В избу вошла старуха злая.
Тряслась костлявая рука,
Седые космы разбирая.
…
Шепча невнятные слова,
Она ушла, стуча клюкою.
Никто не понял колдовства.
Прошли года своей чредою.
Сбылось веленье тайных слов:
На свете встретил он печали,
А счастье, радость и любовь
От знака темного бежали.
Реми де Гурмон в своей «Книге масок» заметил, что у каждого поэта есть два-три своих ключевых слова, определяющих всю тональность его поэзии. У Сологуба особенно часто встречаются определения «злое» и «больное». И совершенно ясно, что это не от пресыщения, не от богатства, а совсем наоборот: от тяжелой жизни, от бедности, Эти эпитеты станут реже встречаться в 10-е годы и в более поздний период. В 1882 году Федору Тетерникову (такова настоящая фамилия поэта) удалось закончить учительский институт. Ему только исполнилось девятнадцать, а он становится основным кормильцем матери и сестры Ольги. Взяв их с собой, он уезжает в город Крестцы Новгородской губернии. Впереди – десяток лет в кошмарной провинции, тяжелая работа учителя. Он мечтал «внести жизнь в школьную рутину, внести семена света и любви в детские сердца», но жизнь никак не соответствовала мечтам. В другом письме он писал: «Ученики зачастую злы и дики... приводят в отчаяние своей глубокой развращенностью», «дома у них нищета и жестокость».
В одном из первых своих романов «Тяжелые сны» под именем учителя Логина поэт вывел себя. Может показаться, что краски сгущены, но в предисловии ко второму изданию романа автор уверяет читателя, что он еще смягчил многое, что точным картинам с натуры никто бы не поверил. «Тяжелые сны» – своего рода черновик более известного романа поэта «Мелкий бес». Главный герой – учитель Передонов – фигура отвратительная, но тем не менее автобиографичная. Это учитель Федор Тетерников мечтает стать инспектором, это его, как и его героя, преследует в страшных видениях мелкий бес «недотыкомка».
Недотыкомка серая
Все вокруг меня вьется да вертится, –
То не лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?
Многие страницы романа тяжело читать, часть тогдашней публики восприняла их как «декадентскую пакость», но это беспощадный реализм. Интересно, что по воспоминаниям грузинского поэта Симона Чиковани Маяковский, узнав о смерти Сологуба в 1927 году, сказал с трибуны в Тбилиси: «После гениальных романов Достоевского в русской литературе немного было произведений, равных его «Мелкому Бесу». От безумной действительности поэт укрывался в воображаемом мире. «Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт». Он придумывает другой мир, далекий от солнечной системы, где светят иные звезды:
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.
Но вот наше Солнце поэт не воспевает, как Бальмонт, а называет его Змеем, даже Змием:
Восходит Змий горящий снова
И мечет грозные лучи.
От волхвования ночного
Меня ты снова отлучи.
Наверное, только у Сологуба может встретиться строка: «И бессмысленный солнечный блеск». Переезжая то в Великие Луки, то в Вытегру, Федор Кузьмич преподает там математику (кстати, он написал учебник геометрии). Наконец сбывается передоновская мечта: с 1892 г. он в Петербурге, с 1898 г. – инспектор городских училищ. Впервые он появляется в редакции «Северного вестника», где знакомится с Минским. Последний и придумал ему псевдоним, решив, что Тетерников – это не звучит. Думается, что вряд ли удачным следует считать решение взять графскую фамилию, да еще известную в литературе (правда, граф В. Соллогуб писался через два «л»), но что делать, под ней он вошел в поэзию, под ней прославился.
Стихи его начинают широко публиковаться, но читатели их оценили не сразу. Стихи были простые по форме, но слишком пряные. Надо было сперва утвердиться стихам Брюсова, Блока, Бальмонта, чтобы у Сологуба нашлись свои поклонники и подражатели. Федор Сологуб вошел в литературу сложившимся мастером. Во многом на него повлияли французские символисты, особенно Верлен, над переводами которого он трудился в ночные часы в Великих Луках и Вытегре. Молодой Сологуб прославился в это время чрезвычайно пессимистическими стихами, воспевавшими и призывавшими смерть.
О смерть! Я твой. Повсюду вижу
Одну тебя, – и ненавижу
Очарования земли...
Мы устали преследовать цели,
На работу затрачивать силы –
Мы созрели
Для могилы.
Такое воспевание смерти, во-первых, больно уж монотонно, во-вторых, бессмысленно (она придет ко всем и без призыва) и, в-третьих, как-то кокетливо нецеломудренно. Именно за эти стихи А. М. Горький высмеял Сологуба и приклеил ему прозвище-ярлык – «Смертяшкин». Впрочем, он писал Сологубу, что считает его настоящим поэтом и рекомендует всем его книгу «Пламенный круг» как образцовую по форме. В начале 1900-х годов на квартире Сологуба, на 8-й линии Васильевского острова, происходят вечера поэзии с чаепитиями, По описанию современников, затянутый в сюртук Сологуб (кто-то называл его «кирпич в сюртуке») вежливо и бесстрастно выслушивал всех одинаково – талантливых и бездарных – и каждому говорил: «Спасибо». В 1905 году он сочувствует революционерам и пишет ужасающе плоские стихи, которые можно бы приписать какому-нибудь Демьяну Бедному; впрочем, у Демьяна такие вещи получались органичнее:
Буржуа с румяной харей,
Прочь с дороги, уходи!
Я – свободный пролетарий
С сердцем в пламенной груди.
В 1907 г. его жизнь изменилась. Он похоронил любимую сестру и вскоре женился на Анастасии Николаевне Чеботаревской, которая надолго стала его верной помощницей. Многие драматические и публицистические произведения они писали вдвоем, но на них стоит только его имя. В этом же году он оставил службу и стал заниматься только литературой. Очень популярны были в эти годы его романы «Навьи чары», «Дым и пепел». Навь – значит мертвец, призрак. Его самого в юмористических журналах называли «Федор Навьич Сологуб, ныне славою пасомый». Тема «навьих чар» встречается и в некоторых стихах поэта:
И на проклятый навий след
Он наступил в безумном беге.
И цвет очей его увял,
И радость жизни улетела,
И тяжкий холод оковал
Его стремительное тело.
В это же время он пишет вариацию на тему пушкинского «Пророка». Только к нему не «шестикрылый серафим» является, а «злая ведьма чашу яда подает» и говорит ему:
Встанешь с пола худ и зелен
Под конец другого дня.
В путь пойдешь, который велен
Духом скрытого огня.
В 1910-11 годах Сологуб пытается стилизовать «жестокий» мещанский романс, вроде такого:
Ах, напрасно я люблю,
Погибаю от злодеек...
Я эссенции куплю –
Склянку на десять копеек.
Накануне 1-й мировой войны Ф. К. Сологуб уже признанный мэтр.
Именно он открыл Игоря Северянина и взял его с собой в турне по городам России. Первое издание «Громокипящего кубка» Северянина снабжено сочувственным предисловием Сологуба. «Когда возникает поэт – душа бывает взволнована», – писал маститый поэт о молодом. Многие недоумевали, что хорошего нашел строгий и холодноватый мэтр в несколько фатовских стихах Северянина. Но это так понятно! Оба «творили легенду», создавали из жизни красочный воображаемый мир. Стоял Сологуб у истоков и другого, всеми теперь любимого поэта – Есенина. Вот так, по свидетельству Георгия Иванова, Сологуб рассказывал в редакции журнала «Новая жизнь» о своей первой встрече с Есениным. (К сожалению, эта глава «Петербургских зим» Г. Иванова в русском издании опущена. Цитирую в своем переводе с польского по книге Эльвиры Ваталы и Виктора Ворошильского «Жизнь Сергея Есенина».)
«Хорошенький такой, голубоглазый, кроткий, – с неодобрением описывал Есенина Сологуб. – Потеет от почтения, сидит на краешке стула, в любую минуту готов вскочить.
Подлизывается до упаду: «Ах, Федор Кузьмич! Ох, Федор Кузьмич!»
И все это чистейшей воды лицемерие. Льстит, а в глубине души думает: подмажусь к старому хрену, поможет напечататься. Ну, мне не так легко пустить пыль в глаза – я этого телка рязанского сразу обвел вокруг пальца. Пришлось ему признаться, что и стихов моих он не читал, и что до меня успел уже подлизаться и к Блоку, и к Мережковским, и что касается той лучины, при которой он якобы учился грамоте, так это вранье. Оказывается, он кончил учительскую школу. Одним словом, я хорошо прощупал его фальшивую атласную кожу и нашел под ней его действительный характер: дьявольскую расчетливость и жажду добиться славы любой ценой. Нашел, вытащил, дал ему по носу – запомнит он старого хрена. И тут же, не меняя тона брюзгливого осуждения, протянул редактору Архипову тетрадку со стихами Есенина:
– Пожалуйста. Совсем неплохие стишки. Искра Божия есть. Советую напечатать – они украсят ваш журнал. И желательно дать аванс. Парнишка все-таки прямо из деревни, в кармане у него наверняка пусто. А парень достоин внимания, есть у него воля, страсть, горячая кровь. Не то что наши тютьки из «Аполлона».
Во время войны Ф. К. Сологуб, к сожалению, включился в пропагандистскую кампанию и написал немало барабанных стишков, совершенно противопоказанных его стилю и оставшихся в народной памяти разве что издевательской пародией Евгения Венского:
И тогда пущай Вильгельма
Глубже сядет в мокроступ,
И узнает вредный шельма,
Что такое Сологуб.
К февральской революции поэт отнесся сочувственно, написав на похороны в марте 1917 г. жертв революции такое маленькое стихотворение:
Народ торжественно хоронит
Ему отдавших жизнь и кровь.
И снова сердце стонет
И слезы льются вновь.
Но эти слезы сердцу милы,
Как мед гиметских чистых сот.
Над тишиной могилы
Свобода расцветет.
Насчет свободы Федор Кузьмич ошибся.
Он пытался заниматься общественной деятельностью, возглавив «Литературную курию» Союза деятелей искусства. Этот Союз был создан в апреле 1917 г. и провозгласил «независимость искусства от государства». Понятно, что вскоре после октябрьского переворота эта организация прекратила свое существование. Сологуб замкнулся в себе. После революции 1917 года он пишет много стихов, переводит, но старается «не видеть в упор» окружающую действительность. Когда он почувствовал, что прежде призываемая им смерть может прийти вполне реально и даже скоро, он сменил тональность своих стихов:
У тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил!
В 1920 году в Москве его имел возможность наблюдать Илья Эренбург. Уже цитированная мною книга «Портреты русских поэтов» является сейчас библиографической редкостью, поэтому приведу из нее небольшие отрывки:
«Не факиром он показался мне в ту минуту, но беспощадно взыскующим учителем гимназии. Не приготовишка ли я? Вдруг он скажет: Эренбург Илья, а расскажите нам, чем Альдонса отличается от Дульцинеи? Я буду молчать, а он долго и радостно потирать руки перед тем, как поставить каллиграфически аккуратную единицу».
И еще:
«Какие-то очень рьяные и очень наивные марксисты возмущаются Сологубом: как в наш век коллективизма он смеет быть убогим, ничтожным индивидуалистом!
Но как же образцовому инспектору не поучить немного этих вечных второклассников? И тихо улыбаясь, Сологуб читает в ответ маленькую лекцию о том, что коллектив состоит из единиц, а не из нулей. Вот если взять его, Федора Кузьмича и еще четверых Федоров Кузьмичей, получится пять, а если взять критиков, то вовсе ничего не получится, ибо 0+0+0+... = 0. Отнюдь не дискуссия, а просто урок арифметики».
Наперекор окружающей его действительности звучат стихи Сологуба 20-х годов:
Поэт, ты должен быть бесстрастным,
Как вечно справедливый Бог,
Чтобы не стать рабом напрасным
Ожесточающих тревог.
Он пишет о Дон Кихоте и Дульцинее, создает целый цикл буколических стихов на манер французских бержерет – «Свирель». В своем альбоме Сологуб сделал запись, свидетельствующую, что этот «пастушеский цикл» написан, чтобы в голодные дни позабавить жену, Анастасию Николаевну:
Ах, лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки.
Как пастушке с ними быть?
Как бежать под влажной мглою,
Чтобы голою ногою
На лягушку не ступить?
Но осенью 1921 г. Анастасия Николаевна ушла из дому и не вернулась. Федор Кузьмич долго ждал ее. На столе всегда ставился прибор для исчезнувшей жены. Злые языки неуместно иронизировали, что он обедает в обществе покойницы. Такую картину описывает и Арсений Тарковский, посетивший Сологуба в 1922 г.
Тело Анастасии Николаевны было вынесено на берег Петровского острова лишь в мае. Было установлено, что она бросилась в реку Ждановку с дамбы Петровского острова. Это окончательно подкосило Сологуба. О последних годах его жизни мы узнаем из книги Федина «Горький среди нас».
«Какой-то разговор со мною он закончил тоскливым сожалением:
– Хорошо бы, как прежде, надеть смокинг, воткнуть в петлицу хризантему и пойти вечером в клуб...
Но пойти ему было некуда. Его нигде не ждали.
Однажды Сологуб сказал Федину: «Я умру от декабрита».
– Что это такое?
– Декабрит – болезнь, от которой умирают в декабре».
Уже в 80-е годы, раскрыв томик Сологуба, я вздрогнул, увидев стихи, написанные еще... в 1913 году:
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.
И в самом деле, мучимый тяжелой одышкой, он уговаривал себя стихами:
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым,
Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным.
Но 5 декабря 1927 года его не стало.
Долгие годы имя поэта пребывало в забвении. Но эти же годы унесли все случайное и несущественное в его творчестве и сохранили для нас поэзию высокого класса, над которой не властны никакие бури и ураганы быстротекущего времени.
Литература к главе VI
1. Бартэн А. Подсказанное памятью // Нева. 1987. № 9.
2. Голлербах Э. Ф. Из воспоминаний о Федоре Сологубе // Русская литература. 1990. № 1.
3. Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. – М., 1976.
4. Орлов В. Н. Перепутья. – М.: Художественная литератуpa, 1976.
5. Парамонов Б. Новый путеводитель по Сологубу // Звезда. 1994. № 4.
6. Чуковский К. Путеводитель по Сологубу. Собрание сочинений в 6 тт. – М.: Художественная литератуpa, 1968. Т. 6.
7. Шкловский В. Федор Сологуб. В кн.: Гамбургский счет. – М., 1990.